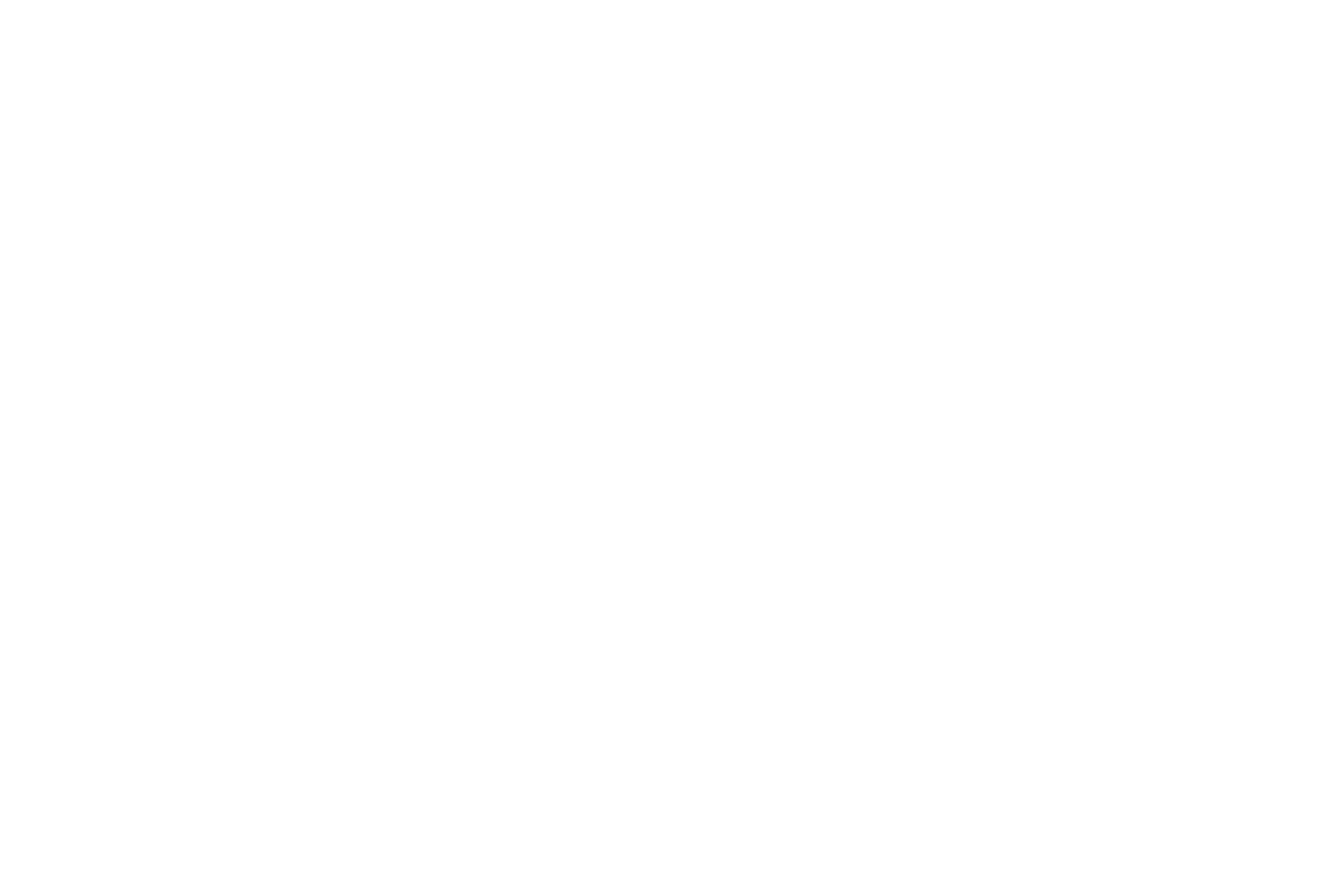© 2019 Strategic Group.Media
Бруно Латур против климатического скептицизма:
миссия ученого и кризис политических учреждений
- Блинов Евгений Николаевич
доктор философии (Phd), ассоциированный научный сотрудник лаборатории ERRAPHIS. Университет Тулузы - Савченко Илья Андреевич
исследователь Межрегиональной общественной организации «Русское общество истории и философии науки»
В статье рассматриваются основания проекта Бруно Латура по построению новой формы коллективности, в которой человеческие и нечеловеческие акторы смогут сосуществовать на равных основаниях.
Лягушки с принципами, или Кто боится глобального потепления?
Антагонист главного героя классического русского романа язвительно отмечал, что новое поколение «верит» в лягушек и не верит в принципы. «Материализм, который вы проповедуете, – напоминал молодым нигилистам этот романтический денди, – был уже не раз в ходу и всегда оказывался несостоятельным». Социолингвистическим маркером конфликта поколений, как заметит позднее Бахтин, станет само произношение слова «принципы», которое Павел Петрович Кирсанов, как представитель «барской помещичьей культуры 20‒30-х гг.», произносил мягко и на французский манер («принси́п»), тогда как Базаров, как выходец из «мира разночинной интеллигенции 50-х, где задавали тон семинаристы и медики», твердо и с ударением на первый слог («прынцип»). В русском языке второй половины XIX в., констатирует автор «Слова в романе», победил «разночинный» вариант. Что, впрочем, не сделало менее острым ни конфликт отцов и детей, ни противостояние идеалистических «принси́пов» с материалистическими принципами. А самое главное – не решило вопрос о том, что полезнее для общества.
Любитель классической русской литературы Бруно Латур, назвавший одну из своих ранних книг в честь эпопеи Толстого и даже иронически оправдывавший собственное многословие отсылкой к русским романам, как ему казалось, смог найти способ примирить враждующие стороны для вящей пользы bien public. Если отказаться от противопоставления «мира вещей» и «социальной реальности», то «веру» в лягушек вполне можно совместить с верой в принципы построения общества, организованного наилучшим образом. То есть помочь ученым и политикам прийти к общему пониманию принципов, необходимых для создания нового политического сообщества, которое он называет «коллективом». В этом коллективе лягушки, а вместе с ними все нечеловеческие акторы, смогут послужить обществу при посредничестве ученых, которые, проанализировав их «привычки», смогут прийти к выводу о том, что представляют собой их «сущности». В «Политиках природы» Латур упоминает случай, когда ученые-герпетологи объясняли повадки земноводных в период размножения строителям дорог, которые были вынуждены прокладывать дорогие тоннели во избежание инцидентов с выползающими на трассу жабами, в результате чего «лобовой конфликт земноводных с автодорогами принял другую форму». В определенном смысле, считает Латур, ученые выступили в качестве «официальных представителей» лягушек в объединенной ассамблее людей и нечеловеческих существ, созванной для решения проблем коллектива. А поскольку речь идет не о волшебной сказке, в которой лягушки «разговаривают человеческими голосами», то именно ученые должны взять на себя миссию по созданию «артикуляционных аппаратов» нечеловеческих существ. Мы еще вернемся к социальной функции ученых на этом примере, а пока попробуем понять, в чем, с точки зрения Латура, заключается сам конфликт и каковы возможные способы его разрешения.
Если воспользоваться латурианским определением модерна, то упомянутый конфликт «материализма» и «идеализма» («реализма» и «конструктивизма», а далее по списку), имплицитно заложен в самой идее модернизации. О тургеневских антагонистах он вполне мог бы сказать, что и Павел Петрович Кирсанов, и Базаров правы по-своему (и по-своему несчастны), так как оба являются представителями идеологии модернизации, а дуализм материальности вещей и «социальной репрезентации» политических учреждений будет возникать в той или иной форме снова и снова. Разве не обнаруживаем мы следы метафизического, религиозного, популистского, одним словом – реакционного и обскурантистского поворота в современном обществе?
В своей последней работе «Где приземлиться?», опубликованной в 2017 г., Латур рисует почти апокалиптическую картину зашедшей в тупик глобализации, резко контрастирующую с оптимистическим тоном «Политик природы». Несмотря на установленные факты, свидетельствующие о глобальном потеплении, элиты умышленно поддерживают скептические настроения относительно изменений климата: «Обскурантистские элиты должны были принять угрозу всерьез, должны были прийти к выводу, что это угрожает их доминированию; они должны были упразднить идеологию планеты, общей для всех; понять, что подобный отказ ни в коем случае нельзя придавать огласке; поэтому необходимо вычеркнуть научные знания, проясняющие причины этого процесса, и действовать максимально скрытно. И все это на протяжении последних тридцати – сорока лет».
Климатический скептицизм – вот настоящий враг, говорит Латур в лекциях, многочисленных интервью и книгах 2010-х гг. «Философ постправды, – не без злорадства отмечала американская пресса, – выступил в поддержку науки». Но не предоставил ли он сам, разрабатывая на протяжении десятилетий критическую социологию науки, инструменты, при помощи которых этот «климатический скептицизм» стал идеологией «обскурантистских элит»? Ведь именно гиперболизированный критицизм позволяет отрицать одновременно «лягушек» (реальность глобального потепления) и «принси́пы» (демократию и императив социальной справедливости)?
Эта проблема, похоже, не дает ему покоя. Уже в 2004 г. Латур задается вопросом, почему критика стала «выдыхаться» или «сбавлять обороты»: «Было ли ошибкой с моей стороны принять участие в становлении области исследований, которая известна как социология науки [science studies]? Достаточно ли сказать, что мы имели в виду совсем не то, когда мы это говорили? Почему я не могу без запинки произнести: глобальное потепление – это факт, хотите вы этого или нет?»
Целью настоящей статьи не является анализ новейших публицистических клише вроде «постправды», из которого с необходимостью следуют нравоучительные выводы об участи раскаявшихся «постмодернистов». Мы, как и Латур, хотим понять, по какой причине критический проект социологии науки не просто «выдохся» или «сбавил обороты», а был, как утверждает он сам, использован для ограничения свободы научного высказывания и еще больше осложнил отношения между научным сообществом и политическими учреждениями современного общества. Ключевым вопросом будет не сакраментальное «Верите ли вы в реальность?», которым принято осаживать «релятивистов» и скептиков, а скорее: можем ли мы по-прежнему «верить в политические учреждения»?
Любитель классической русской литературы Бруно Латур, назвавший одну из своих ранних книг в честь эпопеи Толстого и даже иронически оправдывавший собственное многословие отсылкой к русским романам, как ему казалось, смог найти способ примирить враждующие стороны для вящей пользы bien public. Если отказаться от противопоставления «мира вещей» и «социальной реальности», то «веру» в лягушек вполне можно совместить с верой в принципы построения общества, организованного наилучшим образом. То есть помочь ученым и политикам прийти к общему пониманию принципов, необходимых для создания нового политического сообщества, которое он называет «коллективом». В этом коллективе лягушки, а вместе с ними все нечеловеческие акторы, смогут послужить обществу при посредничестве ученых, которые, проанализировав их «привычки», смогут прийти к выводу о том, что представляют собой их «сущности». В «Политиках природы» Латур упоминает случай, когда ученые-герпетологи объясняли повадки земноводных в период размножения строителям дорог, которые были вынуждены прокладывать дорогие тоннели во избежание инцидентов с выползающими на трассу жабами, в результате чего «лобовой конфликт земноводных с автодорогами принял другую форму». В определенном смысле, считает Латур, ученые выступили в качестве «официальных представителей» лягушек в объединенной ассамблее людей и нечеловеческих существ, созванной для решения проблем коллектива. А поскольку речь идет не о волшебной сказке, в которой лягушки «разговаривают человеческими голосами», то именно ученые должны взять на себя миссию по созданию «артикуляционных аппаратов» нечеловеческих существ. Мы еще вернемся к социальной функции ученых на этом примере, а пока попробуем понять, в чем, с точки зрения Латура, заключается сам конфликт и каковы возможные способы его разрешения.
Если воспользоваться латурианским определением модерна, то упомянутый конфликт «материализма» и «идеализма» («реализма» и «конструктивизма», а далее по списку), имплицитно заложен в самой идее модернизации. О тургеневских антагонистах он вполне мог бы сказать, что и Павел Петрович Кирсанов, и Базаров правы по-своему (и по-своему несчастны), так как оба являются представителями идеологии модернизации, а дуализм материальности вещей и «социальной репрезентации» политических учреждений будет возникать в той или иной форме снова и снова. Разве не обнаруживаем мы следы метафизического, религиозного, популистского, одним словом – реакционного и обскурантистского поворота в современном обществе?
В своей последней работе «Где приземлиться?», опубликованной в 2017 г., Латур рисует почти апокалиптическую картину зашедшей в тупик глобализации, резко контрастирующую с оптимистическим тоном «Политик природы». Несмотря на установленные факты, свидетельствующие о глобальном потеплении, элиты умышленно поддерживают скептические настроения относительно изменений климата: «Обскурантистские элиты должны были принять угрозу всерьез, должны были прийти к выводу, что это угрожает их доминированию; они должны были упразднить идеологию планеты, общей для всех; понять, что подобный отказ ни в коем случае нельзя придавать огласке; поэтому необходимо вычеркнуть научные знания, проясняющие причины этого процесса, и действовать максимально скрытно. И все это на протяжении последних тридцати – сорока лет».
Климатический скептицизм – вот настоящий враг, говорит Латур в лекциях, многочисленных интервью и книгах 2010-х гг. «Философ постправды, – не без злорадства отмечала американская пресса, – выступил в поддержку науки». Но не предоставил ли он сам, разрабатывая на протяжении десятилетий критическую социологию науки, инструменты, при помощи которых этот «климатический скептицизм» стал идеологией «обскурантистских элит»? Ведь именно гиперболизированный критицизм позволяет отрицать одновременно «лягушек» (реальность глобального потепления) и «принси́пы» (демократию и императив социальной справедливости)?
Эта проблема, похоже, не дает ему покоя. Уже в 2004 г. Латур задается вопросом, почему критика стала «выдыхаться» или «сбавлять обороты»: «Было ли ошибкой с моей стороны принять участие в становлении области исследований, которая известна как социология науки [science studies]? Достаточно ли сказать, что мы имели в виду совсем не то, когда мы это говорили? Почему я не могу без запинки произнести: глобальное потепление – это факт, хотите вы этого или нет?»
Целью настоящей статьи не является анализ новейших публицистических клише вроде «постправды», из которого с необходимостью следуют нравоучительные выводы об участи раскаявшихся «постмодернистов». Мы, как и Латур, хотим понять, по какой причине критический проект социологии науки не просто «выдохся» или «сбавил обороты», а был, как утверждает он сам, использован для ограничения свободы научного высказывания и еще больше осложнил отношения между научным сообществом и политическими учреждениями современного общества. Ключевым вопросом будет не сакраментальное «Верите ли вы в реальность?», которым принято осаживать «релятивистов» и скептиков, а скорее: можем ли мы по-прежнему «верить в политические учреждения»?
Политики природы: ученые как официальные представители «нечеловеческих существ»
Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к работе Латура «Политики природы», которая представляет собой первую попытку теоретического синтеза социологии науки и политической философии французского республиканизма. В девяностые годы деятельность Латура ассоциировалась, в первую очередь, с программой aкторно-сетевой теории (ACT) и критикой дуалистической идеологии модерна. Тогда он утверждал, что современные способы обработки информации позволяют вернуться к проекту ассоцианизма, который был технически неосуществим в XVIII в., называя принцип построения сетей «Машиной Юма» или «Юма-Кондильяка». Вводя понятие актора (который понимается как человек, группа людей, животных, вирусов или природных явлений) как самостоятельного существа, вступающего в разнообразные взаимодействия с другими акторами, мы, по определению Латура, встаем на позицию «крайнего номинализма», недостатки которого можно компенсировать, выстраивая «гетерогенные сети», состоящие как из людей, так и нечеловеческих существ. Но на подобную гибридизацию наложен запрет, который Латур объясняет негласным принципом, лежащим в основании «конституции модерна». Она подразумевает разрыв между «миром вещей», в котором властвуют ученые, и «общества», в котором преобладают человеческие мнения. Сосуществование двух миров приводит к самому жесткому дуализму, так как мы не понимаем, как воздействуют друг на друга «вещи» материального мира и учреждения мира социального. Но их взаимодействие неизбежно: именно в этом смысле «мы никогда не были людьми модерна», т.е. вынуждены были изменять учреждения в соответствии с прогрессом наших знаний об устройстве материального мира.
Но даже если это препятствие будет устранено, остается открытым вопрос: каким образом эти «гетерогенные сети» соотносятся с привычными для нас политическими учреждениями (от городских советов до государства) и не должны ли они прийти им на смену? Ведь еще в начале девяностых Латур категорично заявлял, что, с точки зрения АСТ, «буквально нет ничего, кроме сетей, ничего между ними – или, используя метафору из истории физики, нет никакого эфира, в который сети были бы погружены». При этом он признавал, что это «самый неочевидный момент АСТ» и что это делает ее «редукционистской» и «релятивистской» теорией. Но если «нет ничего, кроме сетей», путь даже гетерогенных, не оказываемся ли мы снова в ситуации дуализма между ними и «старыми» политическими учреждениями? Ведь мы по-прежнему живем в различных сетях и во вполне устойчивых государствах-нациях, основанных на республиканских принципах политического модерна. Их недостаточно объявить Старым порядком, ведь это приведет к формированию нового дуализма между модерными учреждениями и немодерными «гетерогенными сетями» с непонятным политическим и юридическим статусом. Роль ученых в этом процессе будет не менее двусмысленной, чем в рамках конституции модерна, когда они объясняли всё и в то же время ни на что не влияли непосредственным образом. В этом нарождающемся дуализме, на наш взгляд, состоит главная уязвимость теории Латура, вполне осознаваемая ее автором, которая станет предметом рефлексии в его поздних сочинениях.
В «Политиках природы» Латур отвечает на этот вопрос одновременно утвердительно и отрицательно: сети придут на смену устаревшим репрезентативным моделям, но, в определенном смысле, они впервые сделают демократию возможной. Именно потому, что теперь в процедурах демократического обсуждения смогут участвовать ученые: подзаголовком «Политик природы» является вопрос «как привить наукам демократию?». Но кроме сетей есть что-то еще, а именно своего рода глобальная сеть, которую Латур называет «коллективом». Как ни парадоксально, образцом этого немодерного коллектива будущего Латур объявляет… Французскую республику, которую принято считать архетипом политического модерна. Ведь именно Первая республика впервые поставила цель привести политические учреждения в полное соответствие с «естественными законами».
Так называемая Конституция модерна является для Латура философской фикцией, которая обосновывает дихотомию мира вещей и социальной реальности. Она не соответствует какому-то конкретному правовому документу (даже в виде «фикции» общественного договора), поэтому не может быть легитимной. В ее современном виде, считает Латур, она является не чем иным, как очередной версией платоновского мифа о Пещере: мир теней, который соответствует области человеческих «мнений», и мир «реальных объектов». Но поскольку речь идет не просто о философской, а о политической фикции, два мира в примере Латура превращаются в две «палаты» некой Генеральной ассамблеи, причем мир «вещей» оказывается высшей палатой, а та, что является площадкой для бесконечных человеческих споров – низшей. Принципиальная разница между ними состоит в том, что в высшей палате помещаются безмолвные вещи, сущность которых недоступна людям и те вынуждены довольствоваться «представлениями» и «фантазиями». Как и в классическом платоновском мифе, формируется группа избранных, способных перемещаться из высшей палаты в низшую, чтобы просветить «томящихся в заточении рабов». Они наделены уникальным талантом понимать язык безмолвных вещей, поэтому «эти немногие избранные располагают самыми невероятными политическими возможностями из когда-либо изобретенных, а именно:
Но даже если это препятствие будет устранено, остается открытым вопрос: каким образом эти «гетерогенные сети» соотносятся с привычными для нас политическими учреждениями (от городских советов до государства) и не должны ли они прийти им на смену? Ведь еще в начале девяностых Латур категорично заявлял, что, с точки зрения АСТ, «буквально нет ничего, кроме сетей, ничего между ними – или, используя метафору из истории физики, нет никакого эфира, в который сети были бы погружены». При этом он признавал, что это «самый неочевидный момент АСТ» и что это делает ее «редукционистской» и «релятивистской» теорией. Но если «нет ничего, кроме сетей», путь даже гетерогенных, не оказываемся ли мы снова в ситуации дуализма между ними и «старыми» политическими учреждениями? Ведь мы по-прежнему живем в различных сетях и во вполне устойчивых государствах-нациях, основанных на республиканских принципах политического модерна. Их недостаточно объявить Старым порядком, ведь это приведет к формированию нового дуализма между модерными учреждениями и немодерными «гетерогенными сетями» с непонятным политическим и юридическим статусом. Роль ученых в этом процессе будет не менее двусмысленной, чем в рамках конституции модерна, когда они объясняли всё и в то же время ни на что не влияли непосредственным образом. В этом нарождающемся дуализме, на наш взгляд, состоит главная уязвимость теории Латура, вполне осознаваемая ее автором, которая станет предметом рефлексии в его поздних сочинениях.
В «Политиках природы» Латур отвечает на этот вопрос одновременно утвердительно и отрицательно: сети придут на смену устаревшим репрезентативным моделям, но, в определенном смысле, они впервые сделают демократию возможной. Именно потому, что теперь в процедурах демократического обсуждения смогут участвовать ученые: подзаголовком «Политик природы» является вопрос «как привить наукам демократию?». Но кроме сетей есть что-то еще, а именно своего рода глобальная сеть, которую Латур называет «коллективом». Как ни парадоксально, образцом этого немодерного коллектива будущего Латур объявляет… Французскую республику, которую принято считать архетипом политического модерна. Ведь именно Первая республика впервые поставила цель привести политические учреждения в полное соответствие с «естественными законами».
Так называемая Конституция модерна является для Латура философской фикцией, которая обосновывает дихотомию мира вещей и социальной реальности. Она не соответствует какому-то конкретному правовому документу (даже в виде «фикции» общественного договора), поэтому не может быть легитимной. В ее современном виде, считает Латур, она является не чем иным, как очередной версией платоновского мифа о Пещере: мир теней, который соответствует области человеческих «мнений», и мир «реальных объектов». Но поскольку речь идет не просто о философской, а о политической фикции, два мира в примере Латура превращаются в две «палаты» некой Генеральной ассамблеи, причем мир «вещей» оказывается высшей палатой, а та, что является площадкой для бесконечных человеческих споров – низшей. Принципиальная разница между ними состоит в том, что в высшей палате помещаются безмолвные вещи, сущность которых недоступна людям и те вынуждены довольствоваться «представлениями» и «фантазиями». Как и в классическом платоновском мифе, формируется группа избранных, способных перемещаться из высшей палаты в низшую, чтобы просветить «томящихся в заточении рабов». Они наделены уникальным талантом понимать язык безмолвных вещей, поэтому «эти немногие избранные располагают самыми невероятными политическими возможностями из когда-либо изобретенных, а именно:
заставить заговорить безмолвный мир, глаголить истину, не встречая возражений, положить конец нескончаемым прениям за счет непререкаемого авторитета, которым их наделили сами вещи»
Вопрос Латура сводится к кантовскому quid juris – по какому праву эти «избранные» наделяются властью говорить от имени вещей и, самое главное, почему эта власть должна быть в буквальном смысле «непререкаемой»? Противоположная крайность, т.е. возведение «социальных репрезентаций природы» в статус единственно законной ассамблеи, не решает проблему: вещи «упрямы» и в качестве нечеловеческих акторов будут постоянно нарушать наши «представления» о них, провоцируя эпидемические и экологические кризисы.
Решение, которое предлагает Латур, состоит в упразднении двухпалатной системы, которую он уподобляет французским Генеральным штатам при Старом порядке, когда представители каждого сословия заседали в отдельных помещениях, обращаясь не друг к другу, а к королю, политическое «тело» которого было объединяющим трансцендентным принципом. Люди и вещи, а точнее – человеческие и нечеловеческие акторы, должны, подобно делегатам от трех сословий в 1789 г., произнести «клятву в зале для игры в мяч», т.е. учредить единую ассамблею и провозгласить Республику. Что сделает невозможным для группы «избранных» апелляцию к непререкаемым законам «единой природы» и заставит их принимать участие в дебатах наравне со всеми.
В чем отличие этого нового республиканского коллектива, состоящего из человеческих и нечеловеческих акторов, от дуалистической монархии Старого порядка? Он является «коллективом, находящимся в процессе экспансии: поэтому свойства человеческих и нечеловеческих существ, из которых он состоит, ничем не гарантированы». При Старом порядке эти избранные всегда могли обратиться к единой природе, гарантировавшей устойчивую «сущность» объектов. Именно фиксируя раз и навсегда эту «сущность» [essence], мы делаем их «вещами» [choses] и противопоставляем людям, т.е. вовлекаем в порочный круг психофизического дуализма, который в свою очередь генерирует целую серию дуализмов: между объектом и субъектом, первичными и вторичными качествами, фактами и ценностями, Природой и обществом, Наукой и мнениями, вещами и словами, окружающей средой и человеком.
Практическая опасность подобного противопоставления заключается в существенном снижении скорости и качества реакции учреждений на внезапные изменения свойств этих «сущностей», которые рано или поздно устанавливаются науками. Латур приводит пример асбеста, который считался «идеальным материалом», пока не было достоверно установлено его влияние на здоровье человека, для чего потребовались десятки судебных процессов и независимых исследований. «Вещи» в терминологии Латура имеют раз и навсегда установленную сущность, а «непререкаемость» научного авторитета существенно затрудняет процесс пересмотра их свойств и принятия правильных решений. Не говоря уже о том, что ученые, подобно генералам, всегда «готовятся к прошедшим войнам» и защищают свои теории, снижая скорость реакции учреждений, которая критически важна в ситуации эпидемических или экологических кризисов, когда мы имеем дело с неким принципиально новым актором, «сущность» которого еще не установлена.
Если коллектив с самого начала исходит из того, что «нечеловеческие акторы» могут в будущем вести себя непредсказуемым образом, это существенно повышает эффективность его реакции в кризисных ситуациях. Но для этого, считает Латур, их следует перестать считать «вещами» с раз и навсегда установленной «сущностью», а превратить в акторы или актанты, которые можно поместить в те самые гетерогенные сети, чтобы затем отслеживать их «поведение». В чем тогда состоит «общественно полезная» деятельность ученых, которая при Старом порядке столь высокопарно именовалась их «миссией»? А самое главное, в рамках латурианской аналогии с республикой, каким официальным статусом они будут наделены?
Ученые или, как называет их Латур, «белые халаты» больше не говорят от имени безмолвных вещей, а скорее конструируют некое подобие «артикуляционных аппаратов», т.е. сообщают им «дар речи». В политическом смысле они становятся «официальными представителями» [port-parole] нечеловеческих акторов, или актантов, слова которых всегда могут быть поставлены под сомнение «самими вещами», точнее их непредсказуемым поведением. В этом случае их «мандат» немедленно аннулируется: когда одна группа ученых, к примеру, определяет совокупность симптомов неизвестной болезни как новую разновидность пневмонии или «рак гомосексуалистов», а вторая открывает и описывает свойства ВИЧ, то именно она получает временный «мандат» на право представлять этот актант в общей ассамблее, т.е., как в приведенном примере, перед учреждениями, ответственными за санитарный контроль. Ученые говорят не вместо «вещей», а вместе с нечеловеческими акторами и «на их языке»: «"Я вызываю смертельную и неожиданную болезнь", – говорят вирусы вместе с вирусологами;
"Я особенно быстро загрязняю реки", – говорят эти удивительные удобрения вместе с фермерами и нефтехимиками; "Я предлагаю способ в корне изменить космологию", – говорят пульсары и сопровождающие их радиоастрономы».
Так исчезают «безмолвные вещи», а на их место приходят гибридные актанты, провозглашающие республику или коллектив, в котором свободно взаимодействуют человеческие и нечеловеческие существа. Процесс создания артикуляционных аппаратов способствует радикальной демистификации научных практик и позволяет проследить весь процесс производства «matters of fact» или «положений дел», которые становятся «matters of concern» – «поводами для озабоченности» и совершения определенных действий, а не написанием очередной главы универсальной Liber mundi.
Республика, напоминает Латур, является «общей» или «публичной вещью» – res publica, chose commune. Подобное обобществление «вещи» необходимо понимать буквально, т.е. как «прием в коллектив» новых, нечеловеческих акторов. Никто не способствует ему больше, чем ученые, выступающие в качестве их официальных представителей. Стоит отдельно уточнить, что под «избранными», чья роль аналогична роли философов в платоновской аллегории пещеры, Латур подразумевает не столько ученых, которые при Старом порядке не имели прямого доступа к общественному мнению и не влияли напрямую на принятие решений, сколько «закоренелых модернизаторов», апеллирующих к науке для того, чтобы избежать легитимных процедур демократического обсуждения. То есть пресловутых «технократов», считающих себя вправе устанавливать новые правила политического сообщества, ссылаясь на утверждения неких «экспертов».
В новом коллективе, надеется Латур, дуализм «безмолвных вещей» и ничем не обоснованных «мнений» будет устранен, а то, что раньше называлось «фактами», наконец будет включено в единое дискурсивное пространство наравне с тем, что раньше называлось «ценностями». Ученые и политики смогут совместно работать над трансформацией учреждений общего мира, в котором лягушки будут гармонично взаимодействовать с «принси́пами».
Решение, которое предлагает Латур, состоит в упразднении двухпалатной системы, которую он уподобляет французским Генеральным штатам при Старом порядке, когда представители каждого сословия заседали в отдельных помещениях, обращаясь не друг к другу, а к королю, политическое «тело» которого было объединяющим трансцендентным принципом. Люди и вещи, а точнее – человеческие и нечеловеческие акторы, должны, подобно делегатам от трех сословий в 1789 г., произнести «клятву в зале для игры в мяч», т.е. учредить единую ассамблею и провозгласить Республику. Что сделает невозможным для группы «избранных» апелляцию к непререкаемым законам «единой природы» и заставит их принимать участие в дебатах наравне со всеми.
В чем отличие этого нового республиканского коллектива, состоящего из человеческих и нечеловеческих акторов, от дуалистической монархии Старого порядка? Он является «коллективом, находящимся в процессе экспансии: поэтому свойства человеческих и нечеловеческих существ, из которых он состоит, ничем не гарантированы». При Старом порядке эти избранные всегда могли обратиться к единой природе, гарантировавшей устойчивую «сущность» объектов. Именно фиксируя раз и навсегда эту «сущность» [essence], мы делаем их «вещами» [choses] и противопоставляем людям, т.е. вовлекаем в порочный круг психофизического дуализма, который в свою очередь генерирует целую серию дуализмов: между объектом и субъектом, первичными и вторичными качествами, фактами и ценностями, Природой и обществом, Наукой и мнениями, вещами и словами, окружающей средой и человеком.
Практическая опасность подобного противопоставления заключается в существенном снижении скорости и качества реакции учреждений на внезапные изменения свойств этих «сущностей», которые рано или поздно устанавливаются науками. Латур приводит пример асбеста, который считался «идеальным материалом», пока не было достоверно установлено его влияние на здоровье человека, для чего потребовались десятки судебных процессов и независимых исследований. «Вещи» в терминологии Латура имеют раз и навсегда установленную сущность, а «непререкаемость» научного авторитета существенно затрудняет процесс пересмотра их свойств и принятия правильных решений. Не говоря уже о том, что ученые, подобно генералам, всегда «готовятся к прошедшим войнам» и защищают свои теории, снижая скорость реакции учреждений, которая критически важна в ситуации эпидемических или экологических кризисов, когда мы имеем дело с неким принципиально новым актором, «сущность» которого еще не установлена.
Если коллектив с самого начала исходит из того, что «нечеловеческие акторы» могут в будущем вести себя непредсказуемым образом, это существенно повышает эффективность его реакции в кризисных ситуациях. Но для этого, считает Латур, их следует перестать считать «вещами» с раз и навсегда установленной «сущностью», а превратить в акторы или актанты, которые можно поместить в те самые гетерогенные сети, чтобы затем отслеживать их «поведение». В чем тогда состоит «общественно полезная» деятельность ученых, которая при Старом порядке столь высокопарно именовалась их «миссией»? А самое главное, в рамках латурианской аналогии с республикой, каким официальным статусом они будут наделены?
Ученые или, как называет их Латур, «белые халаты» больше не говорят от имени безмолвных вещей, а скорее конструируют некое подобие «артикуляционных аппаратов», т.е. сообщают им «дар речи». В политическом смысле они становятся «официальными представителями» [port-parole] нечеловеческих акторов, или актантов, слова которых всегда могут быть поставлены под сомнение «самими вещами», точнее их непредсказуемым поведением. В этом случае их «мандат» немедленно аннулируется: когда одна группа ученых, к примеру, определяет совокупность симптомов неизвестной болезни как новую разновидность пневмонии или «рак гомосексуалистов», а вторая открывает и описывает свойства ВИЧ, то именно она получает временный «мандат» на право представлять этот актант в общей ассамблее, т.е., как в приведенном примере, перед учреждениями, ответственными за санитарный контроль. Ученые говорят не вместо «вещей», а вместе с нечеловеческими акторами и «на их языке»: «"Я вызываю смертельную и неожиданную болезнь", – говорят вирусы вместе с вирусологами;
"Я особенно быстро загрязняю реки", – говорят эти удивительные удобрения вместе с фермерами и нефтехимиками; "Я предлагаю способ в корне изменить космологию", – говорят пульсары и сопровождающие их радиоастрономы».
Так исчезают «безмолвные вещи», а на их место приходят гибридные актанты, провозглашающие республику или коллектив, в котором свободно взаимодействуют человеческие и нечеловеческие существа. Процесс создания артикуляционных аппаратов способствует радикальной демистификации научных практик и позволяет проследить весь процесс производства «matters of fact» или «положений дел», которые становятся «matters of concern» – «поводами для озабоченности» и совершения определенных действий, а не написанием очередной главы универсальной Liber mundi.
Республика, напоминает Латур, является «общей» или «публичной вещью» – res publica, chose commune. Подобное обобществление «вещи» необходимо понимать буквально, т.е. как «прием в коллектив» новых, нечеловеческих акторов. Никто не способствует ему больше, чем ученые, выступающие в качестве их официальных представителей. Стоит отдельно уточнить, что под «избранными», чья роль аналогична роли философов в платоновской аллегории пещеры, Латур подразумевает не столько ученых, которые при Старом порядке не имели прямого доступа к общественному мнению и не влияли напрямую на принятие решений, сколько «закоренелых модернизаторов», апеллирующих к науке для того, чтобы избежать легитимных процедур демократического обсуждения. То есть пресловутых «технократов», считающих себя вправе устанавливать новые правила политического сообщества, ссылаясь на утверждения неких «экспертов».
В новом коллективе, надеется Латур, дуализм «безмолвных вещей» и ничем не обоснованных «мнений» будет устранен, а то, что раньше называлось «фактами», наконец будет включено в единое дискурсивное пространство наравне с тем, что раньше называлось «ценностями». Ученые и политики смогут совместно работать над трансформацией учреждений общего мира, в котором лягушки будут гармонично взаимодействовать с «принси́пами».
Эрозия учреждений и ассимиляция критики
Но этот почти идиллический образ республики будущего, намеченный в «Политиках природы», оказывается омрачен тем, что критические инструменты, столь тщательно разработанные в рамках социологии науки, используются не по назначению. В уже упоминавшейся статье 2004 г. Латур признаёт, что критика в определенном смысле «выдыхается» и, что хуже всего, оказывается «направлена не на тот объект». Он приводит в пример стратега республиканской партии, который видит угрозу интересам американской индустрии в научном анализе причин глобального потепления, а особенно его антропогенных факторов, предлагая в публичных дискуссиях подчеркивать «отсутствие научной достоверности». Это «отсутствие научной достоверности» становится орудием в руках тех, кого сегодня принято называть «климатическими скептиками», получившими мощную поддержку со стороны влиятельных индустриальных лобби в нулевые годы. Латур задается вопросом, какую позицию должна в подобных случаях занимать критическая социология науки: «Пока мы тратили годы, пытаясь выявить предрассудки, замаскированные под объективные утверждения, должны ли мы теперь обнаружить объективные и неизменные факты, замаскированные иллюзорными предрассудками?». В отличие от «модернизаторов» прошлого, для современных элит совершенно не принципиально обращение к объективности фактов или относительности «социальных представлений»: «Должен ли я успокоиться, сказав себе, что плохие парни используют любое орудие, которое оказывается у них под рукой, натурализованные факты или социальную конструкцию, когда им это выгодно?». При этом, заключает Латур, мы не должны отказываться от самой критики или признать ошибочность изначального намерения продемонстрировать социальный характер «конструирования фактов». В определенном смысле он является еще одним подтверждением его проекта от противного: в «Политиках природы» был предусмотрен вполне прозрачный механизм «окончания споров» в том случае, когда текущие данные тех или иных дисциплин не позволяют оспорить уже полученные результаты. Искусственное продолжение научных дискуссий по уже решенному вопросу является не просто «настораживающим симптомом», оно нелегитимно, так как оппозиция обязана подчиняться решению законной ассамблеи.
Позицию, занятую Латуром в «Политиках природы», можно было бы охарактеризовать как радикальный фаллибилизм, ведь она, по сути, предусматривала не просто динамичное изменение научной картины мира и ориентацию на будущее знание, но и соответствующую трансформацию политических и социальных учреждений. Но в ряде случаев определенная группа влияния, ссылаясь на «отсутствие научной достоверности» или расхождения в «мнениях экспертов», может по своему усмотрению изменять параметры системы: то утверждая «неизбежность прогресса», то дискредитируя в глазах публики уже сложившийся научный консенсус (как в случае глобального потепления). Для этого нет необходимости вступать в противоречие с демократическими принципами: переизбыток информации делает реальным феномен «незамедлительного ревизионизма» [instant revisionism]. Население западных стран, формально не ограниченное в доступе к информации, непосредственно после сообщения о том или ином событии в прессе может ознакомиться с десятками теорий заговора и больше не разделяет «наивный реализм» в отношении фактов. Ревизионизм, для формирования которого когда-то требовались десятки лет, сопровождает любой «достоверно установленный» факт и перестает быть атрибутом элитарной критической культуры. В этих условиях становится возможным отрицать реальность глобального потепления и его антропогенный характер, формально не нарушая ни процедур научной верификации, ни демократического обсуждения. Единая ассамблея людей и нечеловеческих существ, проект которой был намечен в «Политиках природы», похоже, не является гарантией того, что критически важная для коллектива информация станет «поводом для озабоченности».
Позицию, занятую Латуром в «Политиках природы», можно было бы охарактеризовать как радикальный фаллибилизм, ведь она, по сути, предусматривала не просто динамичное изменение научной картины мира и ориентацию на будущее знание, но и соответствующую трансформацию политических и социальных учреждений. Но в ряде случаев определенная группа влияния, ссылаясь на «отсутствие научной достоверности» или расхождения в «мнениях экспертов», может по своему усмотрению изменять параметры системы: то утверждая «неизбежность прогресса», то дискредитируя в глазах публики уже сложившийся научный консенсус (как в случае глобального потепления). Для этого нет необходимости вступать в противоречие с демократическими принципами: переизбыток информации делает реальным феномен «незамедлительного ревизионизма» [instant revisionism]. Население западных стран, формально не ограниченное в доступе к информации, непосредственно после сообщения о том или ином событии в прессе может ознакомиться с десятками теорий заговора и больше не разделяет «наивный реализм» в отношении фактов. Ревизионизм, для формирования которого когда-то требовались десятки лет, сопровождает любой «достоверно установленный» факт и перестает быть атрибутом элитарной критической культуры. В этих условиях становится возможным отрицать реальность глобального потепления и его антропогенный характер, формально не нарушая ни процедур научной верификации, ни демократического обсуждения. Единая ассамблея людей и нечеловеческих существ, проект которой был намечен в «Политиках природы», похоже, не является гарантией того, что критически важная для коллектива информация станет «поводом для озабоченности».
Антропоцен и возникновение апокалиптического тона в философии
По мере того, как климатический скептицизм становится глобальным трендом, заметит Латур позднее, он затрагивает не просто «научную достоверность» при установлении тех или иных фактов, а сам авторитет научных учреждений. В преамбуле к работе 2012 г. «Исследования о модусах существования» он описывает совещание с участием французских промышленников и неназванного специалиста по климату из Коллеж де Франс, во время которого последнему был задан вопрос: «Почему мы должны верить вам больше, чем остальным?». На что климатолог отвечает: «Если больше нет доверия научным учреждениям, то все очень серьезно». Латур с удовлетворением отмечает, что климатолог апеллирует именно к авторитету научных учреждений, а не, как он выражается, «Науке с большой буквы Н», т.е. к практикам конкретных дисциплин, которые должны изменять принципы конкретных политических ассоциаций, а не платоновскому миру идеальных геометрических фигур. Именно в этом направлении должна работать критическая социология науки: в союзе с учеными возвращая «доверие» к научным учреждениям. В этом смысле «Исследования о модусах существования» развивает проект «Политик природы», намечая, ни много ни мало, контуры «будущей цивилизации», которая упразднит все неразрешимые дуализмы модерна.
Но если в «Исследованиях о модусах существования» находилось, по определению автора, место для «похвального слова» этой новой, немодерной цивилизации, то в следующей работе Латура «Лицом к Гее: восемь лекций о новом климатическом режиме» (2015) осознанно выбран «апокалиптический тон». Латур наконец напрямую обращается к идее Антропоцена, о которой он не раз упоминал в работах нулевых и десятых годов. Причины этого вполне объяснимы: Антропоцен, как новая геологическая эпоха, которая должна прийти на смену Голоцену, предполагает, что деятельность человека становится главным фактором климатических изменений. А это, вполне в духе латурианской критики «двухпалатной системы» модерна, означает, что люди больше не могут противопоставлять Природу или «окружающую среду» политическим учреждениям, помещая их в параллельные миры. Так как природа, в терминологии Латура, находится на противоположном полюсе по отношению к «обществу», то, констатируя наступление Антропоцена, т.е. преобладание антропогенных факторов климатических изменений, мы вступаем в «постнатуральную» эпоху.
Но как в таком случае быть с пресловутым антропоморфизмом, на борьбу с которым было потрачено столько усилий в процессе делигитимации «конституции модерна»? Использование греческого корня «антропос», отмечает Латур, является своего рода иронией истории, так как «было бы абсурдно предполагать, что существует некое коллективное существо, человеческое общество, новый актор геоистории, каким в свое время был пролетариат. Перед лицом старой природы, которая в свою очередь разложена на составляющие части, нет никого, кого можно было бы назначить ответственным. Потому что больше нет возможности объединить Антропоса в качестве актора, наделенного какой бы то ни было устойчивостью, и сделать из него персонажа, способного играть на этой новой глобальной сцене». Антропоцен, как это ни парадоксально, предполагает отсутствие антропоморфных персонажей.
Но именно тот факт, что мы, как считает Латур, вступаем в «постнатуральную» или «постантропоморфную» эпоху, означает, что человеческие существа больше не могут быть «объединены» и противопоставлены «поверхности» [sol] и выведены за «пределы земной истории». В определенном смысле конец Старого порядка означает именно «возвращение к Земле» или, как выражается Латур, «антикоперниканскую революцию». Что остается после всей этой критической работы по деконструкции антропоморфизма и «единой природы»? Данные различных дисциплин, свидетельствующие о том, что Земля каким-то образом отвечает при помощи «обратного воздействия» на усилия «людей модерна» по покорению «природы». Ученые первыми должны отказаться от прометеевского мифа модерна и продемонстрировать, что ни одна группа людей не сможет находиться «по ту сторону апокалипсиса», т.е. избежать последствий климатических изменений.
Однако и эта радикально алармистская программа, сформулированная в книге «Лицом к Гее», кажется Латуру недостаточной для описания масштаба кризиса. В процитированной нами в самом начале работе 2017г. «Где приземлиться?» он говорит о нарастающем «дерегулировании», которое проявляется как в ослаблении контроля климатических изменений, так и в демонтаже учреждений государства всеобщего благосостояния. Причем на этот раз, помимо абстрактных глобальных элит, сознательно отказавшихся от идеи «общего мира», назван главный бенефициар «климатического скептицизма» – американское индустриальное лобби, одержавшее триумфальную победу с избранием Трампа и выходом США из Парижских соглашений по климату. «Где приземлиться?» – резкий антиамериканский памфлет, достаточно неожиданный для обычно дипломатичного Латура, который на этот раз приходит к выводу, что США, ни много ни мало, «объявили войну» остальному миру. «Отсутствие научной очевидности» и «разногласия среди экспертов» станут принципами работы машины климатического скептицизма, которая, как предсказывает Латур, будет набирать обороты вместе с заявленной Трампом программой реиндустриализации.
Есть ли выход из этой спирали двойной дерегулирования и что за способы «ориентироваться в политике» предлагает Латур? Он настаивает на необходимости «новой картографии» политической мысли, которая позволит преодолеть старые дихотомии модерна. Надежду на это дают экологические движения, которые «пытались быть ни справа, ни слева, ни архаистами, ни прогрессистами», хотя при этом им не удалось выйти за пределы ключевой для программы модерна дихотомии между Природой и Обществом. Сегодня стоит вопрос «to modernize or to ecologize» – «модернизировать или делать экологичным», т.е. соотносить свою политику одновременно с волей народа и «голосами» нечеловеческих существ, которые говорят через «белые халаты». Но что эти «официальные представители» должны делать в условиях, когда тем, кого они представляют, фактически объявлена война?
Из этого можно сделать вывод, что Латур фактически признает не только неудачу ранней «релятивистской» и «редукционистской» программы АСТ, но и недостаточность центристской и, если так можно выразиться, «примиренческой» позиции «Политик природы». Аргументация критической социологии науки была успешно ассимилирована в рамках «нового духа капитализма», который уже поставил себе на службу либертарианские лозунги «освобождения нравов» и даже революционный экспансионизм, принявший форму «продвижения демократии». Новый коллектив не может сложиться в условиях отказа глобальных элит от идеи «общей планеты», но и «реакционное» возвращение к локальному или национальному, которые предлагает так называемый правый популизм, не решает проблему, так как возвращает нас к дуализму модерна. Провозглашая главенство национального суверенитета и его исключительное право развивать те отрасли экономики или использовать тип энергоресурсов, которые выгодны государству-нации, новые изоляционистские элиты предлагают ложную альтернативу, приближающую глобальную катастрофу.
В ряде недавних статей и интервью Латур вновь возвращается к республиканской риторике, но если раньше ее главным мотивом был объединительный пафос природно-человеческой Ассамблеи, принять участие в которой он предлагал ученым, то теперь он призывает этих «официальных представителей» нечеловеческих существ едва ли не выйти на баррикады. Он публично выразил поддержку внесистемным движениям протеста, таким как «желтые жилеты», и призывал ученых вместе с экологами помогать протестующим составлять так называемые наказы [«cahiers de doléance»], или перечни жалоб, которые играли столь важную роль накануне Великой французской революции.
Латур давно пришел к выводу, что для переосмысления ремесла ученого и его роли в обществе необходимо заново изобрести политику. Но критические эксперименты с реформами научных учреждений и пересмотром их статуса оказались не менее опасными, чем перенос иных экспериментов из лабораторий в полевые условия. Общей чертой представителей разных поколений «лишних людей» из русского XIX в. было то, что как верящие в «принси́пы», так и «верящие» в лягушек в конце концов «решились сами ни за что серьезно не приниматься». Западноевропейские люди модерна, чьи привычки столь вдумчиво анализировал Латур на протяжении своей карьеры, руководствуются скорее картезианским приоритетом действия над бездействием. Модернизаторов и «экологизаторов» (или «землян», по определению Латура) ожидает финальная схватка, в которой определится будущее планеты. При любом ее исходе человек, как и было предсказано, исчезнет «как лицо, начертанное на прибрежном песке». Вопрос лишь в том, произойдет ли это в реальности или в области социального воображаемого людей и нечеловеческих существ, которые, наконец, смогут вырваться из западни модерна. Или, в соответствии с латурианским принципом симметрии, в обеих областях одновременно.
The Philosophy Journal 2019, Vol. 12, No. 4, pp. 70–84
Но если в «Исследованиях о модусах существования» находилось, по определению автора, место для «похвального слова» этой новой, немодерной цивилизации, то в следующей работе Латура «Лицом к Гее: восемь лекций о новом климатическом режиме» (2015) осознанно выбран «апокалиптический тон». Латур наконец напрямую обращается к идее Антропоцена, о которой он не раз упоминал в работах нулевых и десятых годов. Причины этого вполне объяснимы: Антропоцен, как новая геологическая эпоха, которая должна прийти на смену Голоцену, предполагает, что деятельность человека становится главным фактором климатических изменений. А это, вполне в духе латурианской критики «двухпалатной системы» модерна, означает, что люди больше не могут противопоставлять Природу или «окружающую среду» политическим учреждениям, помещая их в параллельные миры. Так как природа, в терминологии Латура, находится на противоположном полюсе по отношению к «обществу», то, констатируя наступление Антропоцена, т.е. преобладание антропогенных факторов климатических изменений, мы вступаем в «постнатуральную» эпоху.
Но как в таком случае быть с пресловутым антропоморфизмом, на борьбу с которым было потрачено столько усилий в процессе делигитимации «конституции модерна»? Использование греческого корня «антропос», отмечает Латур, является своего рода иронией истории, так как «было бы абсурдно предполагать, что существует некое коллективное существо, человеческое общество, новый актор геоистории, каким в свое время был пролетариат. Перед лицом старой природы, которая в свою очередь разложена на составляющие части, нет никого, кого можно было бы назначить ответственным. Потому что больше нет возможности объединить Антропоса в качестве актора, наделенного какой бы то ни было устойчивостью, и сделать из него персонажа, способного играть на этой новой глобальной сцене». Антропоцен, как это ни парадоксально, предполагает отсутствие антропоморфных персонажей.
Но именно тот факт, что мы, как считает Латур, вступаем в «постнатуральную» или «постантропоморфную» эпоху, означает, что человеческие существа больше не могут быть «объединены» и противопоставлены «поверхности» [sol] и выведены за «пределы земной истории». В определенном смысле конец Старого порядка означает именно «возвращение к Земле» или, как выражается Латур, «антикоперниканскую революцию». Что остается после всей этой критической работы по деконструкции антропоморфизма и «единой природы»? Данные различных дисциплин, свидетельствующие о том, что Земля каким-то образом отвечает при помощи «обратного воздействия» на усилия «людей модерна» по покорению «природы». Ученые первыми должны отказаться от прометеевского мифа модерна и продемонстрировать, что ни одна группа людей не сможет находиться «по ту сторону апокалипсиса», т.е. избежать последствий климатических изменений.
Однако и эта радикально алармистская программа, сформулированная в книге «Лицом к Гее», кажется Латуру недостаточной для описания масштаба кризиса. В процитированной нами в самом начале работе 2017г. «Где приземлиться?» он говорит о нарастающем «дерегулировании», которое проявляется как в ослаблении контроля климатических изменений, так и в демонтаже учреждений государства всеобщего благосостояния. Причем на этот раз, помимо абстрактных глобальных элит, сознательно отказавшихся от идеи «общего мира», назван главный бенефициар «климатического скептицизма» – американское индустриальное лобби, одержавшее триумфальную победу с избранием Трампа и выходом США из Парижских соглашений по климату. «Где приземлиться?» – резкий антиамериканский памфлет, достаточно неожиданный для обычно дипломатичного Латура, который на этот раз приходит к выводу, что США, ни много ни мало, «объявили войну» остальному миру. «Отсутствие научной очевидности» и «разногласия среди экспертов» станут принципами работы машины климатического скептицизма, которая, как предсказывает Латур, будет набирать обороты вместе с заявленной Трампом программой реиндустриализации.
Есть ли выход из этой спирали двойной дерегулирования и что за способы «ориентироваться в политике» предлагает Латур? Он настаивает на необходимости «новой картографии» политической мысли, которая позволит преодолеть старые дихотомии модерна. Надежду на это дают экологические движения, которые «пытались быть ни справа, ни слева, ни архаистами, ни прогрессистами», хотя при этом им не удалось выйти за пределы ключевой для программы модерна дихотомии между Природой и Обществом. Сегодня стоит вопрос «to modernize or to ecologize» – «модернизировать или делать экологичным», т.е. соотносить свою политику одновременно с волей народа и «голосами» нечеловеческих существ, которые говорят через «белые халаты». Но что эти «официальные представители» должны делать в условиях, когда тем, кого они представляют, фактически объявлена война?
Из этого можно сделать вывод, что Латур фактически признает не только неудачу ранней «релятивистской» и «редукционистской» программы АСТ, но и недостаточность центристской и, если так можно выразиться, «примиренческой» позиции «Политик природы». Аргументация критической социологии науки была успешно ассимилирована в рамках «нового духа капитализма», который уже поставил себе на службу либертарианские лозунги «освобождения нравов» и даже революционный экспансионизм, принявший форму «продвижения демократии». Новый коллектив не может сложиться в условиях отказа глобальных элит от идеи «общей планеты», но и «реакционное» возвращение к локальному или национальному, которые предлагает так называемый правый популизм, не решает проблему, так как возвращает нас к дуализму модерна. Провозглашая главенство национального суверенитета и его исключительное право развивать те отрасли экономики или использовать тип энергоресурсов, которые выгодны государству-нации, новые изоляционистские элиты предлагают ложную альтернативу, приближающую глобальную катастрофу.
В ряде недавних статей и интервью Латур вновь возвращается к республиканской риторике, но если раньше ее главным мотивом был объединительный пафос природно-человеческой Ассамблеи, принять участие в которой он предлагал ученым, то теперь он призывает этих «официальных представителей» нечеловеческих существ едва ли не выйти на баррикады. Он публично выразил поддержку внесистемным движениям протеста, таким как «желтые жилеты», и призывал ученых вместе с экологами помогать протестующим составлять так называемые наказы [«cahiers de doléance»], или перечни жалоб, которые играли столь важную роль накануне Великой французской революции.
Латур давно пришел к выводу, что для переосмысления ремесла ученого и его роли в обществе необходимо заново изобрести политику. Но критические эксперименты с реформами научных учреждений и пересмотром их статуса оказались не менее опасными, чем перенос иных экспериментов из лабораторий в полевые условия. Общей чертой представителей разных поколений «лишних людей» из русского XIX в. было то, что как верящие в «принси́пы», так и «верящие» в лягушек в конце концов «решились сами ни за что серьезно не приниматься». Западноевропейские люди модерна, чьи привычки столь вдумчиво анализировал Латур на протяжении своей карьеры, руководствуются скорее картезианским приоритетом действия над бездействием. Модернизаторов и «экологизаторов» (или «землян», по определению Латура) ожидает финальная схватка, в которой определится будущее планеты. При любом ее исходе человек, как и было предсказано, исчезнет «как лицо, начертанное на прибрежном песке». Вопрос лишь в том, произойдет ли это в реальности или в области социального воображаемого людей и нечеловеческих существ, которые, наконец, смогут вырваться из западни модерна. Или, в соответствии с латурианским принципом симметрии, в обеих областях одновременно.
The Philosophy Journal 2019, Vol. 12, No. 4, pp. 70–84
~
Сподобалась стаття? Подаруйте нам, будь-ласка, чашку кави й ми ще більш прискоримося та вдосконалимося задля Вас.) SG SOFIA - медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!