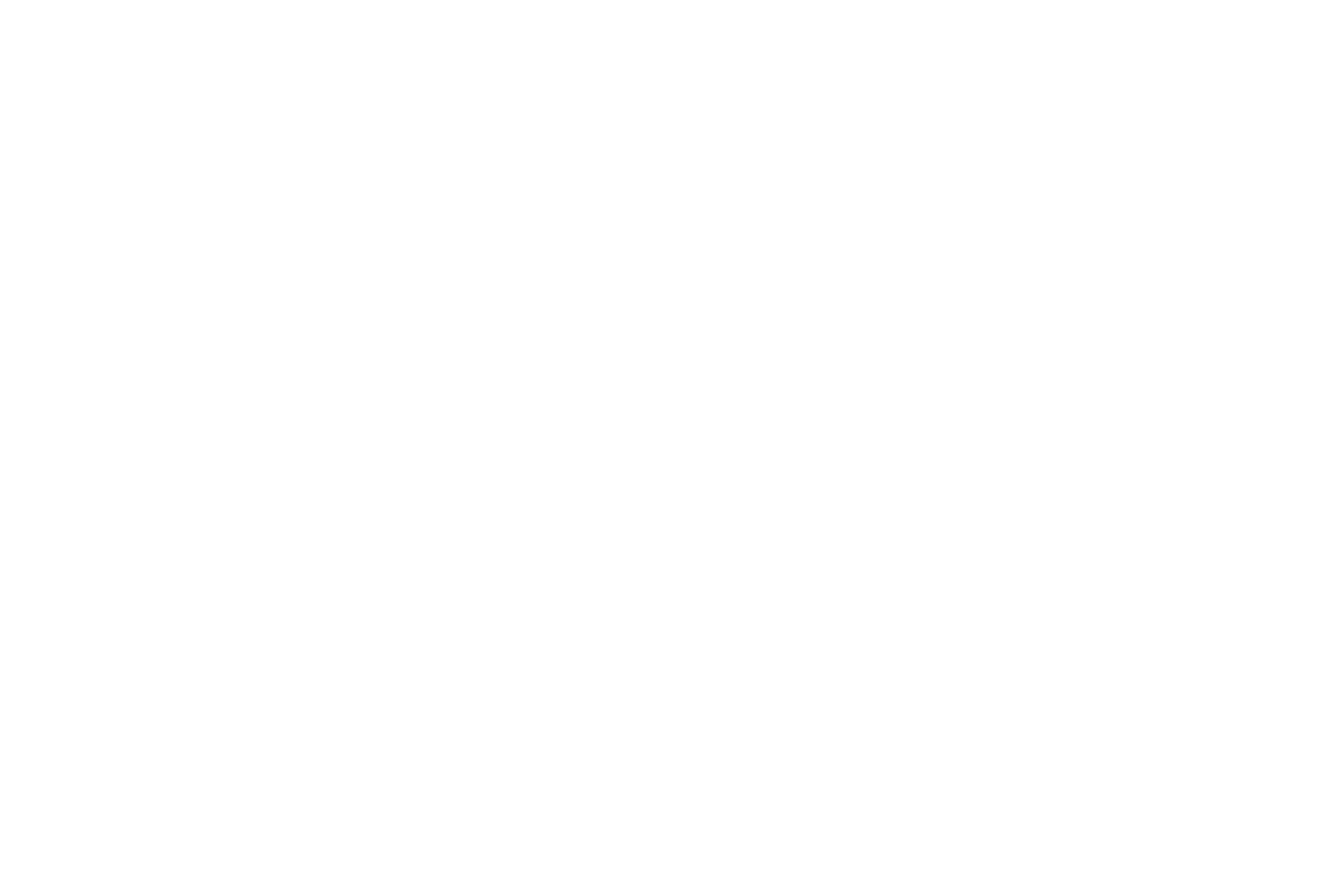© 2019 Strategic Group.Media
Ковид, ВИЧ/СПИД и «испанка»:
исторические вехи и социальные трансформации
Автор статьи утверждает, что COVID-19 едва ли достигнет таких масштабов, чтобы то социальное значение, которое фактически придавалось ему в публичных оценках и мерах властей многих стран, стало выглядеть обоснованным. Именно карантин, а не вирус и болезнь заставляет нас воображать разницу между миром до пандемии и миром после пандемии. С объявлением карантина «другой мир» временно стал не только возможен, но и сразу же реален. Вопрос о мире после карантина — главный в борьбе интерпретаций социального значения COVID-19. Текущий дискурс властей о «новой нормальности», к которой мы якобы движемся, является частью этой борьбы. Сравнив эпидемию COVID-19 с распространением ВИЧ/СПИД, Вагнер приходит к выводу о том, что мир стоит на грани исторического момента, который открывает возможности масштабных социальных сдвигов, сравнимых с «великой трансформацией» первой трети XX века. Сами по себе вирус и вызываемая им болезнь не могут обрести подобное значение. Но они, возможно, возникли в тот момент, когда их появление в сочетании с карантином в качестве политических мер сдерживания может способствовать переосмыслению нашей ситуации. Опыт карантина расширил социальное воображение и повысил потенциал осуществления позитивной социальной трансформации. И все же мы пока явно далеки от того, чтобы прийти к убедительным коллективным действиям по решению насущных проблем на основе свободного выражения мнений и демократического обсуждения.
Часто говорят, что мир после COVID-19 будет очень непохож на прежний. Вирус SARS-C0V-2 при этом наделяется определенным социальным значением, что предполагает сравнение по каким-либо количественным показателям. Но это также позволяет отнести появление вируса и к разряду событий, как понимает этот термин Уильям Сьюэлл, — а именно как трансформирующее структуру происшествие. События позволяют истолковать ситуацию по-новому. Это новое толкование может быть результатом концептуального труда, который уже стоит за происшествием, как, например, в случае штурма Бастилии (как его проанализировал Сьюэлл). Впрочем, вирус как таковой не несет в себе интерпретации; он просто появляется и только затем требует интерпретации. Чтобы он стал событием, мы должны наделить его социальным значением.
Сразу скажу: я сомневаюсь, что мир после COVID-19 будет так уж непохож на прежний. Не могу я с уверенностью утверждать и то, будет ли мир после COVID-19 лучше или хуже нынешнего. Главная причина моих сомнений связана с тем, что мы все еще находимся в процессе наделения вируса социальным значением. Идет борьба за его интерпретацию, как и за то, имеет ли он важное социальное значение (а те, кто считает, что мир особенно не изменится, в настоящее время скорее сдержанно молчат, но это ненадолго). Я могу предложить лишь размышления на тему, как и почему появление вируса может обрести долговременное социально-политическое значение, а также о том, каким это значение окажется. Другими словами, какова вероятность того, что кризис, связанный с COVID-19, вызовет серьезную, точнее, даже желаемую социальную трансформацию. К этим размышлениям подтолкнул европейский опыт COVID-19. Как станет видно позже, на нем они и основываются, но я также предпринял ряд шагов к тому, чтобы поместить этот опыт в глобальный контекст.
Сразу скажу: я сомневаюсь, что мир после COVID-19 будет так уж непохож на прежний. Не могу я с уверенностью утверждать и то, будет ли мир после COVID-19 лучше или хуже нынешнего. Главная причина моих сомнений связана с тем, что мы все еще находимся в процессе наделения вируса социальным значением. Идет борьба за его интерпретацию, как и за то, имеет ли он важное социальное значение (а те, кто считает, что мир особенно не изменится, в настоящее время скорее сдержанно молчат, но это ненадолго). Я могу предложить лишь размышления на тему, как и почему появление вируса может обрести долговременное социально-политическое значение, а также о том, каким это значение окажется. Другими словами, какова вероятность того, что кризис, связанный с COVID-19, вызовет серьезную, точнее, даже желаемую социальную трансформацию. К этим размышлениям подтолкнул европейский опыт COVID-19. Как станет видно позже, на нем они и основываются, но я также предпринял ряд шагов к тому, чтобы поместить этот опыт в глобальный контекст.
Социальное значение ковида
Важным аспектом SARS-C0V-2 и вызываемого им COVID-19 является то, что с самого начала было мало известно об особенностях поведения вируса при заражении людей. И хотя усилия по накоплению знаний огромны и приносят свои плоды, известно все еще очень мало. Эпидемиологи и специалисты в области здравоохранения ожидали, что нечто подобное произойдет, но не знали, что именно и что нужно будет с этим сделать. Эту обычную и очевидную нехватку знаний необходимо иметь в виду при анализе меняющейся социально-политической реакции на пандемию. Все, о чем пойдет речь далее, следует читать с должной осмотрительностью. Знания, приобретенные в будущем, могут значительно изменить ситуацию и ее оценку.
При этом COVID-19 в начале марта 2020 года совершил внезапный скачок от малозначительного события до события с чрезвычайно высоким социальным значением — это дата для Европы, с небольшими внутриевропейскими вариациями. В Азии этот скачок произошел раньше, а в Америке, Африке и Океании — несколько позже и в различной степени. Важно отметить, что он не был вызван каким-то существенным увеличением уровня знаний о вирусе или его последствиях. Главное отличие состояло в том, что теперь он здесь, тогда как раньше вирус был где-то далеко, и в целом ожидалось, что там он и останется. Но внезапно возникла проблема, которую необходимо было решить. Уже ведутся судебные дела о надлежащих сроках этого момента, а именно о том, не проявили ли власти халатность, объявив об этом моменте слишком поздно.
Здесь, однако, я не хочу обсуждать сроки, а вместо этого сосредоточусь на существенных причинах скачка в масштабе социального значения. Вскоре стало ясно, что для нас, людей, наиболее важной особенностью SARS-C0V-2 является специфическое сочетание контагиозности и летальности. Он гораздо менее смертоносен, чем болезнь, известная как атипичная пневмония, которую вызывал SARS-CoV-i, но распространился гораздо быстрее и шире. Основываясь на этих двух показателях, мы можем начать со сравнения измеряемых величин.
В публичных дебатах COVID-19 часто сравнивают с чумой и пандемией гриппа 1918-1920 годов, который ошибочно широко известен как испанский грипп. Литературные и визуальные репрезентации этих пандемий рядом, и на них легко сослаться. Однако их масштабы сильно различаются. Каждая из этих
пандемий убила намного больше людей, чем, вероятно, убьет COVID-19, — в абсолютном выражении, но еще больше в относительном, учитывая, что общая численность населения тогда была гораздо меньше. Ссылки на них драматизируют текущую ситуацию, по большей части никак не помогая ее понять.
COVID-19 также сравнивают с более поздними вирусными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола или атипичная пневмония, и в этих случаях сопоставление довольно прямолинейно: обе очень заразные и очень смертоносные болезни, но они не распространяются так легко и широко, главным образом потому, что
вирус убивает еще до того, как недут распространится. Последнее свойство особенно актуально, чтобы успокоить общественное сознание, если очаг распространения болезни находится далеко, в данном случае далеко от «западных» метрополий: ваш покорный слуга жил в разных странах Европы во время этих эпидемий, в настоящее время в Испании, и все, чем мне пришлось пожертвовать, это один раз отложить поездку в Пекин на год из-за атипичной пневмонии.
Еще реже, как это ни удивительно, проводят сравнение с масштабами распространения ВИЧ/СПИД. Вирус и болезнь появились в 1980-х годах и привлекли значительное внимание общественности из-за высокой смертности, часто среди довольно молодых людей, и в значительной степени на «Западе». Подобно чуме и испанке 1918-1920 годов, ВИЧ/СПИД убил гораздо больше людей, чем, вероятно, убьет COVID-19, и продолжает широко распространяться. Хотя нынешний президент США, по-видимому, придерживается иного мнения, вакцины от ВИЧ/СПИД не существует. Но есть лекарства, которые приходится принимать по-
жизненно, и они по большей части предотвращают смертельный исход, но только там, где они доступны, — а этого нельзя сказать об обширных территориях того, что за неимением лучшего термина мы называем «глобальным Югом». COVID-19 вполне мог встать на медицинскую траекторию, аналогичную СПИДу.
В социальном плане, однако, траектория с течением времени оказалась совершенно иной. ВИЧ/СПИД первоначально занимал важное место в общественном сознании еще и потому, что заражение происходило в основном через гомосексуальные отношения между мужчинами и совместное использование шприцев для употребления наркотиков, что приводило, с одной стороны, к стигматизации, а с другой — к не слишком большой обеспокоенности у гетеросексуалов, не употребляющих наркотики. Когда болезнь распространилась шире, то же самое произошло и с тревогой, но практика «безопасного секса» и появление лекарств вскоре снова смягчили эту тревогу. В случае с COVID-19 динамика восприятия обратная. В течение нескольких недель казалось, что каждый может быть инфицирован в любой момент и где угодно и с непросчитываемым риском умереть от этой болезни, стоит только заразиться. Короткая прогулка до ближайшего магазина стала ассоциироваться с образами из военных, шпионских или научно-фантастических фильмов, в которых неизвестные опасности подстерегают за каждым углом. Но со временем выяснилось, что риск для здоровья высок для пожилых людей с «предрасположенностями», обитателей домов престарелых, медицинских работников и некоторых других групп — различных для разных стран. Если вы не принадлежите ни к одной из этих групп, то ваш собственный риск заболеть не очень высок, статистически говоря, — и, повторю предостережение, при нынешнем уровне знаний.
Эти краткие наблюдения поднимают следующий вопрос. При более пристальном рассмотрении в настоящий момент COVID-19, если брать в расчет совокупные показатели летальности и скорости распространения, не обязательно будет иметь достаточный масштаб, чтобы обоснованно придавать ему то социальное значение, которое фактически придавалось ему в публичных оценках и мерах властей многих, хотя и не всех, стран за последние четыре месяца. Если это так, то почему COVID-19 получил такое социальное значение?
При этом COVID-19 в начале марта 2020 года совершил внезапный скачок от малозначительного события до события с чрезвычайно высоким социальным значением — это дата для Европы, с небольшими внутриевропейскими вариациями. В Азии этот скачок произошел раньше, а в Америке, Африке и Океании — несколько позже и в различной степени. Важно отметить, что он не был вызван каким-то существенным увеличением уровня знаний о вирусе или его последствиях. Главное отличие состояло в том, что теперь он здесь, тогда как раньше вирус был где-то далеко, и в целом ожидалось, что там он и останется. Но внезапно возникла проблема, которую необходимо было решить. Уже ведутся судебные дела о надлежащих сроках этого момента, а именно о том, не проявили ли власти халатность, объявив об этом моменте слишком поздно.
Здесь, однако, я не хочу обсуждать сроки, а вместо этого сосредоточусь на существенных причинах скачка в масштабе социального значения. Вскоре стало ясно, что для нас, людей, наиболее важной особенностью SARS-C0V-2 является специфическое сочетание контагиозности и летальности. Он гораздо менее смертоносен, чем болезнь, известная как атипичная пневмония, которую вызывал SARS-CoV-i, но распространился гораздо быстрее и шире. Основываясь на этих двух показателях, мы можем начать со сравнения измеряемых величин.
В публичных дебатах COVID-19 часто сравнивают с чумой и пандемией гриппа 1918-1920 годов, который ошибочно широко известен как испанский грипп. Литературные и визуальные репрезентации этих пандемий рядом, и на них легко сослаться. Однако их масштабы сильно различаются. Каждая из этих
пандемий убила намного больше людей, чем, вероятно, убьет COVID-19, — в абсолютном выражении, но еще больше в относительном, учитывая, что общая численность населения тогда была гораздо меньше. Ссылки на них драматизируют текущую ситуацию, по большей части никак не помогая ее понять.
COVID-19 также сравнивают с более поздними вирусными заболеваниями, такими как лихорадка Эбола или атипичная пневмония, и в этих случаях сопоставление довольно прямолинейно: обе очень заразные и очень смертоносные болезни, но они не распространяются так легко и широко, главным образом потому, что
вирус убивает еще до того, как недут распространится. Последнее свойство особенно актуально, чтобы успокоить общественное сознание, если очаг распространения болезни находится далеко, в данном случае далеко от «западных» метрополий: ваш покорный слуга жил в разных странах Европы во время этих эпидемий, в настоящее время в Испании, и все, чем мне пришлось пожертвовать, это один раз отложить поездку в Пекин на год из-за атипичной пневмонии.
Еще реже, как это ни удивительно, проводят сравнение с масштабами распространения ВИЧ/СПИД. Вирус и болезнь появились в 1980-х годах и привлекли значительное внимание общественности из-за высокой смертности, часто среди довольно молодых людей, и в значительной степени на «Западе». Подобно чуме и испанке 1918-1920 годов, ВИЧ/СПИД убил гораздо больше людей, чем, вероятно, убьет COVID-19, и продолжает широко распространяться. Хотя нынешний президент США, по-видимому, придерживается иного мнения, вакцины от ВИЧ/СПИД не существует. Но есть лекарства, которые приходится принимать по-
жизненно, и они по большей части предотвращают смертельный исход, но только там, где они доступны, — а этого нельзя сказать об обширных территориях того, что за неимением лучшего термина мы называем «глобальным Югом». COVID-19 вполне мог встать на медицинскую траекторию, аналогичную СПИДу.
В социальном плане, однако, траектория с течением времени оказалась совершенно иной. ВИЧ/СПИД первоначально занимал важное место в общественном сознании еще и потому, что заражение происходило в основном через гомосексуальные отношения между мужчинами и совместное использование шприцев для употребления наркотиков, что приводило, с одной стороны, к стигматизации, а с другой — к не слишком большой обеспокоенности у гетеросексуалов, не употребляющих наркотики. Когда болезнь распространилась шире, то же самое произошло и с тревогой, но практика «безопасного секса» и появление лекарств вскоре снова смягчили эту тревогу. В случае с COVID-19 динамика восприятия обратная. В течение нескольких недель казалось, что каждый может быть инфицирован в любой момент и где угодно и с непросчитываемым риском умереть от этой болезни, стоит только заразиться. Короткая прогулка до ближайшего магазина стала ассоциироваться с образами из военных, шпионских или научно-фантастических фильмов, в которых неизвестные опасности подстерегают за каждым углом. Но со временем выяснилось, что риск для здоровья высок для пожилых людей с «предрасположенностями», обитателей домов престарелых, медицинских работников и некоторых других групп — различных для разных стран. Если вы не принадлежите ни к одной из этих групп, то ваш собственный риск заболеть не очень высок, статистически говоря, — и, повторю предостережение, при нынешнем уровне знаний.
Эти краткие наблюдения поднимают следующий вопрос. При более пристальном рассмотрении в настоящий момент COVID-19, если брать в расчет совокупные показатели летальности и скорости распространения, не обязательно будет иметь достаточный масштаб, чтобы обоснованно придавать ему то социальное значение, которое фактически придавалось ему в публичных оценках и мерах властей многих, хотя и не всех, стран за последние четыре месяца. Если это так, то почему COVID-19 получил такое социальное значение?
Событие — карантин, а не вирус
Первым делом, отвечая на этот вопрос, я бы заметил, что он недостаточно точно поставлен. Разговоры о SARS-C0V-2 и COVID-19 не сильно отличаются от разговоров о ВИЧ/СПИД, атипичной пневмонии, лихорадке Эбола и даже самых сильных «нормальных» эпидемиях гриппа в те моменты, когда эти заболевания возникали. Вирус и болезнь, которую он провоцирует, не создают событие в смысле трансформирующего структуру происшествия. Скорее, именно карантин занимает наши умы и заставляет нас воображать разницу между миром до и миром после.
Кто-то может возразить, что такое уточнение является мелочной придиркой. Карантин—это не что иное, как реакция на вирус и болезнь. Но связь между вирусом и карантином гораздо тоньше, чем часто думают. В самом начале предпринимаемые против вируса меры значительно различались. Затем все в той или иной степени приняли рекомендации ВОЗ. Но различия сохранились и в настоящее время снова могут усилиться. В том, что SARS-C0V-2 привел к карантину, не было ничего предопределенного.
Можно спорить о том, существовали ли вообще разумные альтернативы карантину после того, как болезнь начала распространяться, но, как бы ни был важен этот вопрос, я хотел бы остановиться не на нем. Чтобы определить источники роста социального значения, необходимо рассмотреть разницу между ожидаемым и неожиданным.
Появление SARS-C0V-2 в той или иной форме было ожидаемо. Вирусологи и эпидемиологи в этом не сомневались, и у органов здравоохранения имелись экстренные планы на такой случай. Хотя до недавнего времени я был довольно несведущ в вирусах и пандемиях, даже я, вероятно, ответил бы утвердительно, если бы один из этих ныне вездесущих исследователей подошел ко мне в прошлом году и спросил, считаю ли я, что скоро повторятся эпидемии наподобие тех, что были вызваны ВИЧ, SARS-CoV-і или Эболой. И напротив, если бы меня спросили, найдут ли власти либерально-капиталистических стран в самом ближайшем будущем причину закрыть большинство предприятий и остановить проведение публичных мероприятий на три месяца, я бы счел это весьма маловероятным. Тот факт, что это произошло неожиданно, во многом способствовал превращению карантина в социально значимый опыт.
Если нечто в высшей степени неожиданное становится реальностью, причем очень быстро, это открывает широкий простор для воображения. Если возможна изоляция, то, наверное, возможно и многое другое, что мы считали невозможным. Выражение бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер «альтернативы нет» стало олицетворять подавление коллективного воображения в 1980-е годы, тогда как лозунг Всемирного социального форума «Другой мир возможен!» призывал сохранять воображение открытым, долгое время — довольно безуспешно. Между началом 1990-х годов и финансовым кризисом 2008 года горизонт ожиданий не слишком далеко выходил за пределы пространства уже накопленного опыта, во многом обратив вспять открытие горизонта будущего, которое Райнхарт Козеллек датировал первыми десятилетиями XIX века. После 2008 года ощущение потребности в масштабной социальной трансформации усилилось, но ее вероятность не возросла вместе с растущей необходимостью, не проявилась даже умеренно ясная картина ее контуров.
Вот что изменилось с объявлением карантина. Когда в политических кругах решили, что необходим, пусть и временно, «другой мир», он стал не только возможен, но и сразу же реален. Этот недолгий новый мир был полон двусмысленностей: это был мир растущих тревог и страхов, укрепляемых СМИ; возросшего государственного контроля над людьми; крайне асимметричных рисков для здоровья и благополучия как внутри своих стран, так и в еще большей степени в глобальном масштабе. Но это был и мир с низким уровнем загрязнения, что делало цели глобальной климатической политики удивительно достижимыми; мир, где жесткая финансовая экономия внезапно стала не только излишней, но даже безответственной; мир, где правительство вдруг вспомнило о своих обязательствах в отношении здравоохранения и проявило солидарность с теми, кто теряет работу и занятость. Таким образом, он породил утопии и антиутопии, которые нам предлагали в течение последних месяцев, причем многие из них были созданы учеными в области социальных и гуманитарных наук. Карантин дал волю социальному воображению.
Впрочем, от социального воображения к социальным преобразованиям путь очень долгий. Коллективно воображаемое будущее—это средство, которое помогает его достичь или, по крайней мере, определить необходимый образ действий. Такое воображение должно опираться на понимание недостатков предшествующей формы социальной организации, и оно должно быть проявлено и озвучено акторами, которые имеют потенциал для осуществления изменений, — в противном случае оно будет «утопическим» в том смысле, в котором использовал этот термин Карл Маркс. В настоящее время социальное воображение расцветает, поскольку мы — все вместе, все наше общество — не знаем, как жить дальше. Но такое воображение должно создавать коллективные ожидания относительно будущего, должно изображать будущее, которое, как можно ожидать, станет реальным. Вот что поставлено на карту в борьбе интерпретаций социального значения COVID-19.
Текущий дискурс властей о «новой нормальности», к которой мы якобы движемся, является частью этой борьбы. Я еще не видел ни единой попытки проанализировать нынешнее употребление этого выражения, но его возникновение можно, во всяком случае, проследить до размышлений некоего Генри Уайза Вуда о новом мире после окончания Первой мировой войны в 1918 году. Интересно, что в этом тексте, опубликованном в декабре 1918 года в американском National Electric Light Association Bulletin, проводилось различие между, с одной стороны, последовательным проектированием будущей социальной организации и затем осуществлением этого проекта и, с другой стороны, ее постепенной разработкой по мере обретения нового опыта. Впоследствии это выражение встречалось во время Великой депрессии после 1929 года, затем стало широко использоваться в психологическом консультировании после травматических кризисов и вернулось в широкий обиход для обозначения социального события после атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Таким образом, в целом оно выражает убежденность в том, что кризис можно преодолеть и достичь новой стабильности, в то же время неявно признавая, что «новое» может быть несовершенным по сравнению со «старым» именно из-за того, что произошло и что нельзя обратить вспять. Таким образом, нынешнее употребление этого выражения, вероятно, лучше всего понимать как попытку властей обуздать силу воображения, пытаясь одновременно смягчить
страхи и показать, что все под контролем, что есть путь, по которому можно идти, даже если эта «новая нормальность» остается неопределенной. Возвращаясь к отличиям от 1918 года: при употреблении словосочетания «новая нормальность» сегодня явно отдают приоритет поэтапному подходу, а не воображаемому будущему с совершенно новыми контурами. Оно призвано устранить влияние карантина на воображение.
В этом нет ничего разоблачительного. Хотя мы можем с подозрением относиться к заявлениям властей, есть веские основания обсуждать существующие варианты воображаемого будущего, чтобы прийти к более ограниченному набору как желательных, так и достижимых вариантов будущего, которые могут воплощать в себе коллективные ожидания, предполагающие определенные действия. В позитивной версии именно об этом и идет речь в дискурсе «новой нормальности». Другими словами, существует некое пространство между «утопическим» воображением и «новой нормальностью» властей, в которой находятся желаемые и достижимые варианты будущего. Чтобы определить контуры этого пространства, нам следует взглянуть на прошлые, «сопоставимые» социальные констелляции, чтобы понять нашу нынешнюю. Остальная часть этого текста посвящена описанию этой задачи, и в ней будут рассмотрены две социальные констелляции, которыми были отмечены разные исторические моменты.
Кто-то может возразить, что такое уточнение является мелочной придиркой. Карантин—это не что иное, как реакция на вирус и болезнь. Но связь между вирусом и карантином гораздо тоньше, чем часто думают. В самом начале предпринимаемые против вируса меры значительно различались. Затем все в той или иной степени приняли рекомендации ВОЗ. Но различия сохранились и в настоящее время снова могут усилиться. В том, что SARS-C0V-2 привел к карантину, не было ничего предопределенного.
Можно спорить о том, существовали ли вообще разумные альтернативы карантину после того, как болезнь начала распространяться, но, как бы ни был важен этот вопрос, я хотел бы остановиться не на нем. Чтобы определить источники роста социального значения, необходимо рассмотреть разницу между ожидаемым и неожиданным.
Появление SARS-C0V-2 в той или иной форме было ожидаемо. Вирусологи и эпидемиологи в этом не сомневались, и у органов здравоохранения имелись экстренные планы на такой случай. Хотя до недавнего времени я был довольно несведущ в вирусах и пандемиях, даже я, вероятно, ответил бы утвердительно, если бы один из этих ныне вездесущих исследователей подошел ко мне в прошлом году и спросил, считаю ли я, что скоро повторятся эпидемии наподобие тех, что были вызваны ВИЧ, SARS-CoV-і или Эболой. И напротив, если бы меня спросили, найдут ли власти либерально-капиталистических стран в самом ближайшем будущем причину закрыть большинство предприятий и остановить проведение публичных мероприятий на три месяца, я бы счел это весьма маловероятным. Тот факт, что это произошло неожиданно, во многом способствовал превращению карантина в социально значимый опыт.
Если нечто в высшей степени неожиданное становится реальностью, причем очень быстро, это открывает широкий простор для воображения. Если возможна изоляция, то, наверное, возможно и многое другое, что мы считали невозможным. Выражение бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер «альтернативы нет» стало олицетворять подавление коллективного воображения в 1980-е годы, тогда как лозунг Всемирного социального форума «Другой мир возможен!» призывал сохранять воображение открытым, долгое время — довольно безуспешно. Между началом 1990-х годов и финансовым кризисом 2008 года горизонт ожиданий не слишком далеко выходил за пределы пространства уже накопленного опыта, во многом обратив вспять открытие горизонта будущего, которое Райнхарт Козеллек датировал первыми десятилетиями XIX века. После 2008 года ощущение потребности в масштабной социальной трансформации усилилось, но ее вероятность не возросла вместе с растущей необходимостью, не проявилась даже умеренно ясная картина ее контуров.
Вот что изменилось с объявлением карантина. Когда в политических кругах решили, что необходим, пусть и временно, «другой мир», он стал не только возможен, но и сразу же реален. Этот недолгий новый мир был полон двусмысленностей: это был мир растущих тревог и страхов, укрепляемых СМИ; возросшего государственного контроля над людьми; крайне асимметричных рисков для здоровья и благополучия как внутри своих стран, так и в еще большей степени в глобальном масштабе. Но это был и мир с низким уровнем загрязнения, что делало цели глобальной климатической политики удивительно достижимыми; мир, где жесткая финансовая экономия внезапно стала не только излишней, но даже безответственной; мир, где правительство вдруг вспомнило о своих обязательствах в отношении здравоохранения и проявило солидарность с теми, кто теряет работу и занятость. Таким образом, он породил утопии и антиутопии, которые нам предлагали в течение последних месяцев, причем многие из них были созданы учеными в области социальных и гуманитарных наук. Карантин дал волю социальному воображению.
Впрочем, от социального воображения к социальным преобразованиям путь очень долгий. Коллективно воображаемое будущее—это средство, которое помогает его достичь или, по крайней мере, определить необходимый образ действий. Такое воображение должно опираться на понимание недостатков предшествующей формы социальной организации, и оно должно быть проявлено и озвучено акторами, которые имеют потенциал для осуществления изменений, — в противном случае оно будет «утопическим» в том смысле, в котором использовал этот термин Карл Маркс. В настоящее время социальное воображение расцветает, поскольку мы — все вместе, все наше общество — не знаем, как жить дальше. Но такое воображение должно создавать коллективные ожидания относительно будущего, должно изображать будущее, которое, как можно ожидать, станет реальным. Вот что поставлено на карту в борьбе интерпретаций социального значения COVID-19.
Текущий дискурс властей о «новой нормальности», к которой мы якобы движемся, является частью этой борьбы. Я еще не видел ни единой попытки проанализировать нынешнее употребление этого выражения, но его возникновение можно, во всяком случае, проследить до размышлений некоего Генри Уайза Вуда о новом мире после окончания Первой мировой войны в 1918 году. Интересно, что в этом тексте, опубликованном в декабре 1918 года в американском National Electric Light Association Bulletin, проводилось различие между, с одной стороны, последовательным проектированием будущей социальной организации и затем осуществлением этого проекта и, с другой стороны, ее постепенной разработкой по мере обретения нового опыта. Впоследствии это выражение встречалось во время Великой депрессии после 1929 года, затем стало широко использоваться в психологическом консультировании после травматических кризисов и вернулось в широкий обиход для обозначения социального события после атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Таким образом, в целом оно выражает убежденность в том, что кризис можно преодолеть и достичь новой стабильности, в то же время неявно признавая, что «новое» может быть несовершенным по сравнению со «старым» именно из-за того, что произошло и что нельзя обратить вспять. Таким образом, нынешнее употребление этого выражения, вероятно, лучше всего понимать как попытку властей обуздать силу воображения, пытаясь одновременно смягчить
страхи и показать, что все под контролем, что есть путь, по которому можно идти, даже если эта «новая нормальность» остается неопределенной. Возвращаясь к отличиям от 1918 года: при употреблении словосочетания «новая нормальность» сегодня явно отдают приоритет поэтапному подходу, а не воображаемому будущему с совершенно новыми контурами. Оно призвано устранить влияние карантина на воображение.
В этом нет ничего разоблачительного. Хотя мы можем с подозрением относиться к заявлениям властей, есть веские основания обсуждать существующие варианты воображаемого будущего, чтобы прийти к более ограниченному набору как желательных, так и достижимых вариантов будущего, которые могут воплощать в себе коллективные ожидания, предполагающие определенные действия. В позитивной версии именно об этом и идет речь в дискурсе «новой нормальности». Другими словами, существует некое пространство между «утопическим» воображением и «новой нормальностью» властей, в которой находятся желаемые и достижимые варианты будущего. Чтобы определить контуры этого пространства, нам следует взглянуть на прошлые, «сопоставимые» социальные констелляции, чтобы понять нашу нынешнюю. Остальная часть этого текста посвящена описанию этой задачи, и в ней будут рассмотрены две социальные констелляции, которыми были отмечены разные исторические моменты.
Вопрос об историческом моменте
1980-е годы были временем возникновения ВИЧ/СПИД. Как уже говорилось выше, идентификация гомосексуалов и наркоманов как «групп риска» первоначально привела к стигматизации людей, которые, говоря социологическим языком того времени, являлись девиантами. Гомосексуалы были декриминализированы во многих предположительно «развитых» обществах совсем недавно, а во многих странах до сих пор трудно, если не невозможно, открыто поддерживать гомосексуальные отношения. Сегрегация и изоляция носителей вируса представлялась приемлемой политикой здравоохранения не только консервативным политикам и публицистам, но и властям. Однако в конце первого десятилетия борьбы со СПИДом стало ясно, что этого не произойдет, а доминирующим подходом станет сочетание полового просвещения— в степени, доселе необычной в общественном пространстве, — и медицинского обслуживания.
Конечно, помогли и некоторые особенности поведения вируса: он передавался не так легко, как SARS-C0V-2, и, хотя СПИД смертелен, заражение ВИЧ по большей части не сразу приводило к угрозе для жизни. Но более широкая социальная констелляция в тот момент была чрезвычайно важна. Начиная с 1960-х годов европейские страны медленно продвигались в сторону большего признания индивидуальных свобод и постепенно пришли к принятию плюрализма и разнообразия как результата того, что стало называться процессами «индивидуализации» — процессами, которые ранее повсеместно считались угрозой функционированию общества и общественному единству. В начале 1980-х годов этот процесс еще не консолидировался, и появление СПИДа стало своего рода тестом. В условиях распространения СПИДа на повестку дня были поставлены вопросы стигматизации, криминализации форм социального поведения и ограничения свобод. Некоторые политические деятели воспользовались СПИДом для того, чтобы остановить и обратить вспять социальные тенденции, к которым они в любом случае относились крайне критично. Но в целом эти предложения потерпели поражение, не в последнюю очередь из-за мощной мобилизации социальных движений, и страны продолжали двигаться по траектории социальных преобразований, на которую они встали еще до возникновения кризиса.
Чтобы уравновесить картину, добавим еще один компонент к этому наброску характеристики исторического момента 1980-х годов. Осознание серьезных экологических проблем к тому времени значительно возросло. Вопрос об ограниченности биофизических ресурсов Земли широко обсуждался в обществе, а также во внутренней и глобальной политике со времени публикации «Пределов роста», доклада Римскому клубу 1972 года. Было признано существование глобального потепления, хотя это знание все еще ограничивалось в основном научными кругами. Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года в Стокгольме и Саммит Земли ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро стали двумя важными моментами в развитии глобального экологического сознания. Однако природоохранная деятельность по-прежнему далеко не соответствовала требованиям, которые содержались даже в официальных декларациях, не говоря уже о более далеко идущих предложениях формирующегося экологического
движения. В целом эта недобросовестность объясняется наличием могущественных экономических сил, заинтересованных в продолжении неограниченной эксплуатации ресурсов планеты. Это объяснение, как бы убедительно оно ни звучало, должно укорениться в социальном контексте, если только мы не хотим принять его как универсальное объяснение исторического развития капиталистически х стран.
Экологическое сознание возникло в тандеме с только что упомянутой социальной трансформацией. В Европе более широкое признание индивидуальных свобод и многообразия привело к тому, что ограничения на индивидуальный выбор и поступки были сняты или ослаблены во многих областях общественной жизни — от абортов до образования, от трудовых коллективных договоров до норм теле- и радиовещания, от торговых барьеров до фискальных требований. Ослабление ограничений на индивидуальный выбор означало, по крайней мере в данном контексте, что стало труднее оправдывать коллективные действия, в частности общепринятые коллективные действия. Сдвиг этого баланса легко прослеживается с 1980-х годов в экологической политике, направленной по большей части на стимулирование индивидуального выбора при эпистемической поддержке предполагаемых экономических знаний. В свою очередь, выбор в пользу согласованных коллективных действий совершается крайне редко, и на политической повестке не стоят даже правовые ограничения индивидуальных действий, наносящих ущерб окружающей среде; а когда к ним все-таки обращаются, их не часто доводят до конца.
Проведем теперь краткий сравнительный обзор политики в области здравоохранения и окружающей среды. Карантин в качестве основной политико-административной меры в отношении COVID-19 обосновывался примерно так: мы вступили в ситуацию, о которой мало знаем, но знания, которыми мы располагаем, предполагают высокую и неминуемую опасность как для конкретных людей, так и для структуры общества в целом. Учитывая срочность, надо действовать быстро, а учитывая вероятность огромного ущерба, надо руководствоваться принципом предосторожности. Как оказалось, это обоснование беспрецедентных действий с высокими «побочными» социально-экономическими эффектами получило широкое публичное признание, по крайней мере в настоящее время. Теперь перейдем к климатической политике: знания о последствиях изменения климата тоже довольно основательны и почти не оспариваются, хотя некоторая эпистемическая неопределенность сохраняется, и это указывает на огромный непоправимый ущерб условиям жизни на нашей планете в ближайшем будущем. Однако до сих пор не было предложено никаких мер, даже отдаленно сравнимых с карантином, для противодействия изменению климата. Такие действия считаются необоснованными, а политика объявляется искусством возможного, чем подчеркивается, что очень немногое из возможного будет приемлемо для всего общества.
Наш первый вопрос заключался в том, насколько велика будет разница между «до» и «после» COVID-19 и сможет ли он вызвать серьезную социальную трансформацию. Теперь этот вопрос в свете предшествующих размышлений о недавнем прошлом можно уточнить следующим образом: означает ли факт осуществимости карантина, что наши страны вышли из ситуации, в которой общепринятые коллективные действия трудно было обосновать и совершить, из ситуации, которая стала преобладающей с 1980-х годов? Или, если говорить еще конкретнее, существует ли в нынешних демократических странах реальная возможность, что эффективные коллективные действия будут разрабатываться на основе обсуждений широкой общественности и применяться для решения ключевых проблем нашего времени, которые до сих пор оказались неразрешимыми, в частности изменения климата и глобального социального неравенства? Чтобы приблизиться к ответу, рассмотрим еще один исторический момент.
Конечно, помогли и некоторые особенности поведения вируса: он передавался не так легко, как SARS-C0V-2, и, хотя СПИД смертелен, заражение ВИЧ по большей части не сразу приводило к угрозе для жизни. Но более широкая социальная констелляция в тот момент была чрезвычайно важна. Начиная с 1960-х годов европейские страны медленно продвигались в сторону большего признания индивидуальных свобод и постепенно пришли к принятию плюрализма и разнообразия как результата того, что стало называться процессами «индивидуализации» — процессами, которые ранее повсеместно считались угрозой функционированию общества и общественному единству. В начале 1980-х годов этот процесс еще не консолидировался, и появление СПИДа стало своего рода тестом. В условиях распространения СПИДа на повестку дня были поставлены вопросы стигматизации, криминализации форм социального поведения и ограничения свобод. Некоторые политические деятели воспользовались СПИДом для того, чтобы остановить и обратить вспять социальные тенденции, к которым они в любом случае относились крайне критично. Но в целом эти предложения потерпели поражение, не в последнюю очередь из-за мощной мобилизации социальных движений, и страны продолжали двигаться по траектории социальных преобразований, на которую они встали еще до возникновения кризиса.
Чтобы уравновесить картину, добавим еще один компонент к этому наброску характеристики исторического момента 1980-х годов. Осознание серьезных экологических проблем к тому времени значительно возросло. Вопрос об ограниченности биофизических ресурсов Земли широко обсуждался в обществе, а также во внутренней и глобальной политике со времени публикации «Пределов роста», доклада Римскому клубу 1972 года. Было признано существование глобального потепления, хотя это знание все еще ограничивалось в основном научными кругами. Конференция ООН по проблемам окружающей среды 1972 года в Стокгольме и Саммит Земли ООН 1992 года в Рио-де-Жанейро стали двумя важными моментами в развитии глобального экологического сознания. Однако природоохранная деятельность по-прежнему далеко не соответствовала требованиям, которые содержались даже в официальных декларациях, не говоря уже о более далеко идущих предложениях формирующегося экологического
движения. В целом эта недобросовестность объясняется наличием могущественных экономических сил, заинтересованных в продолжении неограниченной эксплуатации ресурсов планеты. Это объяснение, как бы убедительно оно ни звучало, должно укорениться в социальном контексте, если только мы не хотим принять его как универсальное объяснение исторического развития капиталистически х стран.
Экологическое сознание возникло в тандеме с только что упомянутой социальной трансформацией. В Европе более широкое признание индивидуальных свобод и многообразия привело к тому, что ограничения на индивидуальный выбор и поступки были сняты или ослаблены во многих областях общественной жизни — от абортов до образования, от трудовых коллективных договоров до норм теле- и радиовещания, от торговых барьеров до фискальных требований. Ослабление ограничений на индивидуальный выбор означало, по крайней мере в данном контексте, что стало труднее оправдывать коллективные действия, в частности общепринятые коллективные действия. Сдвиг этого баланса легко прослеживается с 1980-х годов в экологической политике, направленной по большей части на стимулирование индивидуального выбора при эпистемической поддержке предполагаемых экономических знаний. В свою очередь, выбор в пользу согласованных коллективных действий совершается крайне редко, и на политической повестке не стоят даже правовые ограничения индивидуальных действий, наносящих ущерб окружающей среде; а когда к ним все-таки обращаются, их не часто доводят до конца.
Проведем теперь краткий сравнительный обзор политики в области здравоохранения и окружающей среды. Карантин в качестве основной политико-административной меры в отношении COVID-19 обосновывался примерно так: мы вступили в ситуацию, о которой мало знаем, но знания, которыми мы располагаем, предполагают высокую и неминуемую опасность как для конкретных людей, так и для структуры общества в целом. Учитывая срочность, надо действовать быстро, а учитывая вероятность огромного ущерба, надо руководствоваться принципом предосторожности. Как оказалось, это обоснование беспрецедентных действий с высокими «побочными» социально-экономическими эффектами получило широкое публичное признание, по крайней мере в настоящее время. Теперь перейдем к климатической политике: знания о последствиях изменения климата тоже довольно основательны и почти не оспариваются, хотя некоторая эпистемическая неопределенность сохраняется, и это указывает на огромный непоправимый ущерб условиям жизни на нашей планете в ближайшем будущем. Однако до сих пор не было предложено никаких мер, даже отдаленно сравнимых с карантином, для противодействия изменению климата. Такие действия считаются необоснованными, а политика объявляется искусством возможного, чем подчеркивается, что очень немногое из возможного будет приемлемо для всего общества.
Наш первый вопрос заключался в том, насколько велика будет разница между «до» и «после» COVID-19 и сможет ли он вызвать серьезную социальную трансформацию. Теперь этот вопрос в свете предшествующих размышлений о недавнем прошлом можно уточнить следующим образом: означает ли факт осуществимости карантина, что наши страны вышли из ситуации, в которой общепринятые коллективные действия трудно было обосновать и совершить, из ситуации, которая стала преобладающей с 1980-х годов? Или, если говорить еще конкретнее, существует ли в нынешних демократических странах реальная возможность, что эффективные коллективные действия будут разрабатываться на основе обсуждений широкой общественности и применяться для решения ключевых проблем нашего времени, которые до сих пор оказались неразрешимыми, в частности изменения климата и глобального социального неравенства? Чтобы приблизиться к ответу, рассмотрим еще один исторический момент.
На пути ко второй великой трансформации?
Пандемия гриппа 1918-1920 годов была по большей части забыта, пока COVID-19 не вернул ее в общественное сознание ровно столетие спустя. Хотя пандемия привела к гибели гораздо большего числа как военнослужащих, так и гражданских лиц, чем Первая мировая война, она оказалась в ее тени. Войну и пандемию объединяет то, что их масштаб и последствия были обусловлены высокой степенью глобальной взаимосвязанности, причем период, предшествовавший Первой мировой войне, иногда называют «первой глобализацией». Возможно, их объединяет и то, что они внесли вклад в осуществление серьезных социальных трансформаций, которые готовились десятилетиями, но для их свершения требовалось какое-то событие.
Имперско-либеральная Европа XIX века считала, что ее богатство и власть находятся на эволюционной траектории непрерывного роста благодаря неуклонному прогрессу в науке и промышленности. Однако к концу столетия возникли признаки кризиса, и в различных сегментах общества предпринимались попытки переориентации. Одним из главных вопросов было полное включение всех членов в общество, организованное все еще очень иерархически, и, таким образом, введение принципа равенства во всех
социальных институтах, поддерживаемых государством как органом авторитетной власти и коллективной ответственности. Эти вопросы были очевидны для элит по меньшей мере с 1870-х годов, но изменения отвергались или в лучшем случае откладывались до более поздних этапов социальной эволюции. Оппозиционные движения, как правило, рассматривали свержение политического порядка как единственный способ продвинуться дальше, но им не хватало сил. Взаимодействие элит и общественных движений постепенно привело к «великой трансформации» в самозащите общества от последствий фикции саморегулирующегося рынка, как выразился Карл Поланьи в 1944 году.
Описанные таким образом полвека между 1870 и 1920 годами ВО МНОГОМ СХОДНЫ С периодом С 1970 ПО 2020 год. Довольно длительный период роста богатства и власти, как будто самоподдерживающегося, но в то же время отмеченного высокой асимметрией в распределении (сначала большее значение имела асимметрия внутри стран, позднее — глобальная асимметрия), медленно подходит к концу, но в течение длительного времени напряженность продолжает нарастать, и пока не найдено способа ее разрядить. Затем событие меняет доминирующую интерпретацию ситуации.
Для первого периода этим событием была Первая мировая война, возможно вместе с пандемией 1918-1920 годов. Она привела к значительным изменениям, которые ранее встречали резкое сопротивление и которые проявились в разных странах по-разному: всеобщее и равное избирательное право, полное признание профсоюзов и социалистических партий, повышение заработной платы и социальная политика, создающая условия для сокращения социального неравенства и признания коллективной ответственности за благосостояние всех граждан. Не стоит забывать, что в 1920-е годы также наблюдался взрыв художественного творчества, который оказал длительное влияние.
Сегодня все острее становится потребность в новой, или второй, великой трансформации. Может ли SARS-C0V-2/COVID-19 стать подобным событием в наше время? Вышеизложенные размышления показывают, что сами по себе вирус и вызываемая им болезнь не могут обрести подобное значение. Но они, возможно, возникли в тот момент, когда их появление в сочетании с карантином в качестве политической меры, направленной против него, может способствовать переосмыслению нашей ситуации, что является необходимой основой для серьезной социальной трансформации. Сейчас уже не 1980-е и не 1990-е годы, когда такое переосмысление было бы гораздо менее вероятным. Сегодня от fin-du-vingtieme-siecle с его акцентом на индивидуалистическую свободу и неограниченную коммерческую экспансию мы уже перешли в новую эру, которая демонстрирует более высокую готовность общества к трансформации. Опыт карантина расширил социальное воображение и повысил потенциал осуществления позитивной социальной трансформации. И все же мы пока явно далеки от того, чтобы прийти к убедительным коллективным действиям по решению насущных проблем на основе свободного выражения мнений и демократического обсуждения. В качестве промежуточного вывода следует сделать три замечания, которые способны помочь понять связь между 2020 и 1920 годом и в то же время провести различия между первым и вторым.
Во-первых, мы слишком привыкли считать историческую «великую трансформацию» успехом, которому сегодня нужно только подражать. Проводить прямую линию от «раннего государства всеобщего благосостояния» и «первой волны демократизации» к либерально-демократическим государствам всеобщего благосостояния второй послевоенной эпохи — значит сглаживать изгибы и складки истории. В этом случае колониализм, расизм, евгеника, нацизм, сталинизм и другие начинают казаться окольными путями, которых просвещенный ум всегда предпочитал избегать, а не неотъемлемыми составляющими последних полутора столетий мировой истории. Но они служили компонентами, которые использовались при «самозащите общества».
Во-вторых, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то далеко не очевидно, какие именно средства лучше всего использовать для того, чтобы превратить карантин в позитивное событие, определяющее структурную трансформацию. Хотя в целом понятно, в каком направлении должны происходить изменения, никакого типового решения нет и близко. Однако следует иметь в виду, что никакой бесспорной модели «великой трансформации» не существовало и в конце XIX века. Социальная трансформация должна была произойти благодаря широкому процессу переинтерпретации, и нечто подобное может произойти
и сейчас.
В-третьих, необходим тщательный анализ исторической «великой трансформации» и ее долговременных последствий, чтобы лучше понимать сходства с текущей ситуацией и глубокие отличия от нее. Одним из ключевых результатов «великой трансформации» XX века, который долгое время не замечали, было удовлетворение социальных потребностей «Севера» путем использования биофизических и социальных ресурсов планеты в других регионах. Этот экстернализирующий подход служил причиной глобального социального неравенства, разрушения окружающей среды и глобального потепления. Более того, хотя это всегда было проблематично, он требует контроля над природой и иерархией по отношению к другим людям, которых сегодня уже не существует. Было бы неправильно, если бы вторая «великая трансформация» просто вернула страны «Севера» на траекторию первой «великой трансформации» и если бы «северяне» вновь заявили, что она должна служить образцом для всего мира. Скорее, она должна заняться решением проблем, созданных как раз в результате первой «великой трансформации». Но понимание этого распространено не так широко, как следовало бы.
ЛОГОС•TOM 31•#1•2021
Имперско-либеральная Европа XIX века считала, что ее богатство и власть находятся на эволюционной траектории непрерывного роста благодаря неуклонному прогрессу в науке и промышленности. Однако к концу столетия возникли признаки кризиса, и в различных сегментах общества предпринимались попытки переориентации. Одним из главных вопросов было полное включение всех членов в общество, организованное все еще очень иерархически, и, таким образом, введение принципа равенства во всех
социальных институтах, поддерживаемых государством как органом авторитетной власти и коллективной ответственности. Эти вопросы были очевидны для элит по меньшей мере с 1870-х годов, но изменения отвергались или в лучшем случае откладывались до более поздних этапов социальной эволюции. Оппозиционные движения, как правило, рассматривали свержение политического порядка как единственный способ продвинуться дальше, но им не хватало сил. Взаимодействие элит и общественных движений постепенно привело к «великой трансформации» в самозащите общества от последствий фикции саморегулирующегося рынка, как выразился Карл Поланьи в 1944 году.
Описанные таким образом полвека между 1870 и 1920 годами ВО МНОГОМ СХОДНЫ С периодом С 1970 ПО 2020 год. Довольно длительный период роста богатства и власти, как будто самоподдерживающегося, но в то же время отмеченного высокой асимметрией в распределении (сначала большее значение имела асимметрия внутри стран, позднее — глобальная асимметрия), медленно подходит к концу, но в течение длительного времени напряженность продолжает нарастать, и пока не найдено способа ее разрядить. Затем событие меняет доминирующую интерпретацию ситуации.
Для первого периода этим событием была Первая мировая война, возможно вместе с пандемией 1918-1920 годов. Она привела к значительным изменениям, которые ранее встречали резкое сопротивление и которые проявились в разных странах по-разному: всеобщее и равное избирательное право, полное признание профсоюзов и социалистических партий, повышение заработной платы и социальная политика, создающая условия для сокращения социального неравенства и признания коллективной ответственности за благосостояние всех граждан. Не стоит забывать, что в 1920-е годы также наблюдался взрыв художественного творчества, который оказал длительное влияние.
Сегодня все острее становится потребность в новой, или второй, великой трансформации. Может ли SARS-C0V-2/COVID-19 стать подобным событием в наше время? Вышеизложенные размышления показывают, что сами по себе вирус и вызываемая им болезнь не могут обрести подобное значение. Но они, возможно, возникли в тот момент, когда их появление в сочетании с карантином в качестве политической меры, направленной против него, может способствовать переосмыслению нашей ситуации, что является необходимой основой для серьезной социальной трансформации. Сейчас уже не 1980-е и не 1990-е годы, когда такое переосмысление было бы гораздо менее вероятным. Сегодня от fin-du-vingtieme-siecle с его акцентом на индивидуалистическую свободу и неограниченную коммерческую экспансию мы уже перешли в новую эру, которая демонстрирует более высокую готовность общества к трансформации. Опыт карантина расширил социальное воображение и повысил потенциал осуществления позитивной социальной трансформации. И все же мы пока явно далеки от того, чтобы прийти к убедительным коллективным действиям по решению насущных проблем на основе свободного выражения мнений и демократического обсуждения. В качестве промежуточного вывода следует сделать три замечания, которые способны помочь понять связь между 2020 и 1920 годом и в то же время провести различия между первым и вторым.
Во-первых, мы слишком привыкли считать историческую «великую трансформацию» успехом, которому сегодня нужно только подражать. Проводить прямую линию от «раннего государства всеобщего благосостояния» и «первой волны демократизации» к либерально-демократическим государствам всеобщего благосостояния второй послевоенной эпохи — значит сглаживать изгибы и складки истории. В этом случае колониализм, расизм, евгеника, нацизм, сталинизм и другие начинают казаться окольными путями, которых просвещенный ум всегда предпочитал избегать, а не неотъемлемыми составляющими последних полутора столетий мировой истории. Но они служили компонентами, которые использовались при «самозащите общества».
Во-вторых, если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то далеко не очевидно, какие именно средства лучше всего использовать для того, чтобы превратить карантин в позитивное событие, определяющее структурную трансформацию. Хотя в целом понятно, в каком направлении должны происходить изменения, никакого типового решения нет и близко. Однако следует иметь в виду, что никакой бесспорной модели «великой трансформации» не существовало и в конце XIX века. Социальная трансформация должна была произойти благодаря широкому процессу переинтерпретации, и нечто подобное может произойти
и сейчас.
В-третьих, необходим тщательный анализ исторической «великой трансформации» и ее долговременных последствий, чтобы лучше понимать сходства с текущей ситуацией и глубокие отличия от нее. Одним из ключевых результатов «великой трансформации» XX века, который долгое время не замечали, было удовлетворение социальных потребностей «Севера» путем использования биофизических и социальных ресурсов планеты в других регионах. Этот экстернализирующий подход служил причиной глобального социального неравенства, разрушения окружающей среды и глобального потепления. Более того, хотя это всегда было проблематично, он требует контроля над природой и иерархией по отношению к другим людям, которых сегодня уже не существует. Было бы неправильно, если бы вторая «великая трансформация» просто вернула страны «Севера» на траекторию первой «великой трансформации» и если бы «северяне» вновь заявили, что она должна служить образцом для всего мира. Скорее, она должна заняться решением проблем, созданных как раз в результате первой «великой трансформации». Но понимание этого распространено не так широко, как следовало бы.
ЛОГОС•TOM 31•#1•2021
~