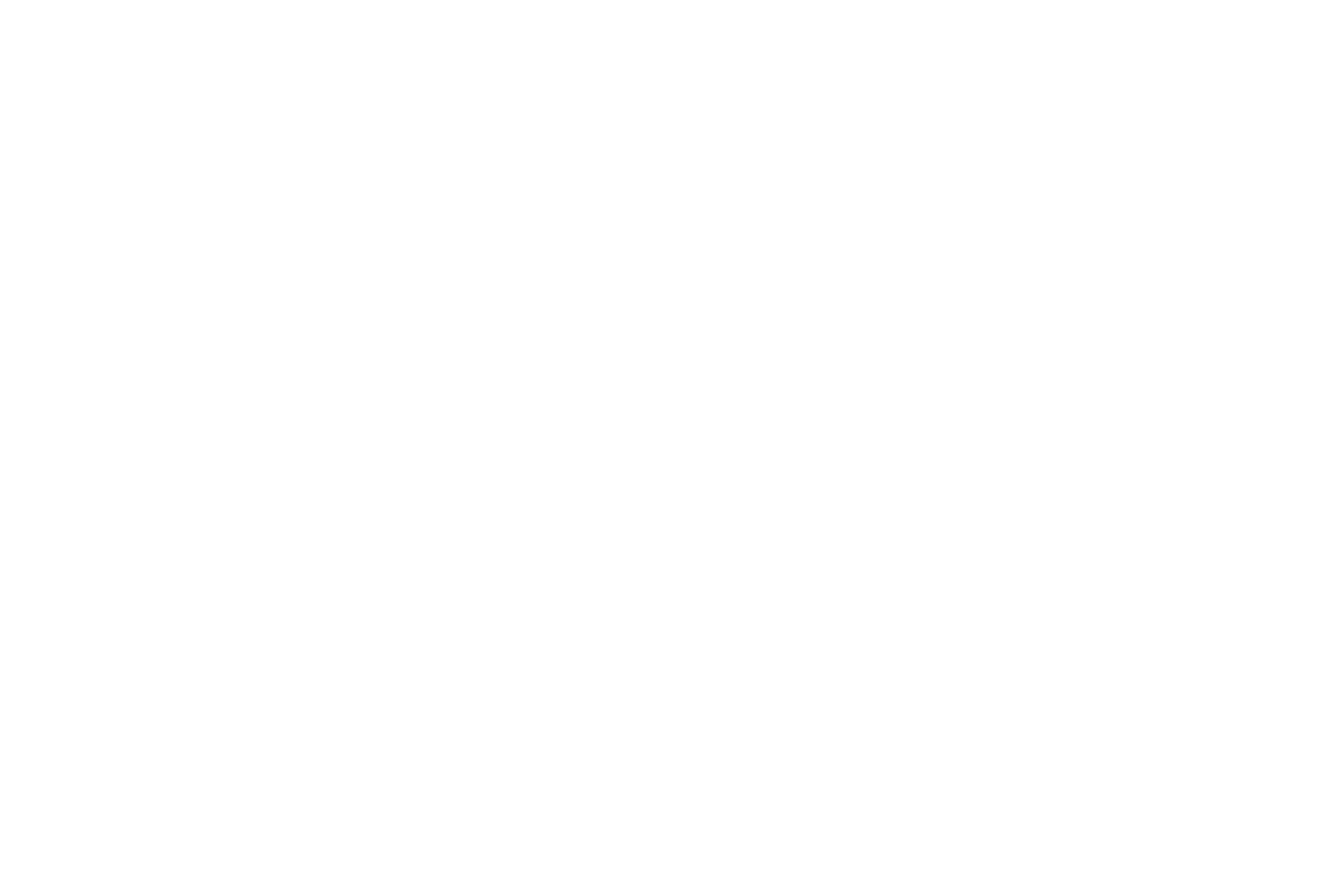© 2019 Strategic Group.Media
Макс Вебер и модерн XXI века
В следующем году будет отмечаться столетие смерти Макса Вебера, что дает исследователям повод вновь обратиться к его наследию. Развитие «современного капитализма» (Weber, 1904-1905: 5) примерно с 1920 по 1970 год, казалось бы, сначала подтверждало веберовский диагноз. Однако позже, примерно с 1970 года и по настоящий момент, в «современном обществе» (Parsons, 1971) произошли такие серьезные изменения, что, по мнению многих авторов, уже в 1980-е годы возникла необходимость в новой фундаментальной теории.
Концепции вроде «другого модерна» (Beck, 1986) или «нового духа капитализма» (Boltanski, Chiapello, 1999) вызвали большой интерес, но не были приняты единодушно. Таким образом, остается открытым вопрос, можно ли по-прежнему анализировать модерн и капитализм с помощью понятий, разработанных в XIX и начале XX веков и вошедших в канон, или же необходимы новые теоретические перспективы.
Для дальнейшего обсуждения этого вопроса особенно полезно вновь обратиться к трудам Вебера, которые довольно запутанным образом одновременно содержат в себе как общие теоретические рассуждения (включенные сегодня в канон социологической теории), так и анализ общественных изменений (в форме историческойи сравнительно-историческойсоциологии), а также размышления о политических событиях —диагнози критика эпохи. Яне ставлю своей целью определить, какой аспект веберовских работ сегодня все еще релевантен (в целом по этому вопросу см., например: Schwinn, Albert, 2016; Eliaeson, 2017; Filippov, Farkhatdinov, 2019). Напротив, исходя из напряженности между обозначенными выше частями наследия Вебера, в статье будет предпринята попытка понять, как такая сложная комбинация возможна сегодня и на какие барьеры наталкиваются ученые. На что падает «свет великих культурных проблем» (Weber, 1904: 87), какие элементы прошлого обусловливают настоящее и какие события особенно значимы для понимания той или иной эпохи — вот те вопросы, ответы на которые каждый раз приходится искать заново. Ответы, найденные в другой исторической ситуации, в лучшем случае окажутся «ключами», которые можно попытаться использовать, но нельзя быть уверенным в том, что они откроют нам путь к пониманию.
Далее будет предложен такой «ключ» — это понятие «модерн», вернее, то поле интерпретаций, что возникают вокруг этого термина. Я исхожу из предположения, что данное поле достаточно обширно для того, чтобы лучше понять наше настоящее, но в то же время уверен, что для успеха существующий сегодня модерн должен быть соотнесен с этими интерпретациями — теоретически, исторически и в качестве диагноза эпохи. При этом я использую следующую процедуру: прежде всего необходимо выделить элементы того, что можно было бы назвать стандартной теорией или базовым понятием модерна — тем, что применяется как в социологии, так и при самоопределении современных обществ. Работы Вебера можно читать — это следующий шаг — в качестве конституирующего элемента подобной теории. Однако сразу после этого я утверждаю, что возможно и другое прочтение Вебера, которое скорее с трудом соотносится со стандартной теорией модерна. На этом этапе я буду ссылаться и на современных авторов, следующих, пусть не всегда явно, но по существу, за Вебером. Таким образом я постараюсь обосновать мои выводы относительно настоящего времени. Но прежде в краткой форме поставлю вопрос, что привело к появлению этих «двух Веберов». Ответ следует искать в напряженности между стремлением к теоретической согласованности и контекстуальным пониманием термина. Итак, ключ помещается в понятийное поле таким образом, чтобы открылись пути к теоретическим и историческим выводам, а также к диагностике настоящего.
Концепции вроде «другого модерна» (Beck, 1986) или «нового духа капитализма» (Boltanski, Chiapello, 1999) вызвали большой интерес, но не были приняты единодушно. Таким образом, остается открытым вопрос, можно ли по-прежнему анализировать модерн и капитализм с помощью понятий, разработанных в XIX и начале XX веков и вошедших в канон, или же необходимы новые теоретические перспективы.
Для дальнейшего обсуждения этого вопроса особенно полезно вновь обратиться к трудам Вебера, которые довольно запутанным образом одновременно содержат в себе как общие теоретические рассуждения (включенные сегодня в канон социологической теории), так и анализ общественных изменений (в форме историческойи сравнительно-историческойсоциологии), а также размышления о политических событиях —диагнози критика эпохи. Яне ставлю своей целью определить, какой аспект веберовских работ сегодня все еще релевантен (в целом по этому вопросу см., например: Schwinn, Albert, 2016; Eliaeson, 2017; Filippov, Farkhatdinov, 2019). Напротив, исходя из напряженности между обозначенными выше частями наследия Вебера, в статье будет предпринята попытка понять, как такая сложная комбинация возможна сегодня и на какие барьеры наталкиваются ученые. На что падает «свет великих культурных проблем» (Weber, 1904: 87), какие элементы прошлого обусловливают настоящее и какие события особенно значимы для понимания той или иной эпохи — вот те вопросы, ответы на которые каждый раз приходится искать заново. Ответы, найденные в другой исторической ситуации, в лучшем случае окажутся «ключами», которые можно попытаться использовать, но нельзя быть уверенным в том, что они откроют нам путь к пониманию.
Далее будет предложен такой «ключ» — это понятие «модерн», вернее, то поле интерпретаций, что возникают вокруг этого термина. Я исхожу из предположения, что данное поле достаточно обширно для того, чтобы лучше понять наше настоящее, но в то же время уверен, что для успеха существующий сегодня модерн должен быть соотнесен с этими интерпретациями — теоретически, исторически и в качестве диагноза эпохи. При этом я использую следующую процедуру: прежде всего необходимо выделить элементы того, что можно было бы назвать стандартной теорией или базовым понятием модерна — тем, что применяется как в социологии, так и при самоопределении современных обществ. Работы Вебера можно читать — это следующий шаг — в качестве конституирующего элемента подобной теории. Однако сразу после этого я утверждаю, что возможно и другое прочтение Вебера, которое скорее с трудом соотносится со стандартной теорией модерна. На этом этапе я буду ссылаться и на современных авторов, следующих, пусть не всегда явно, но по существу, за Вебером. Таким образом я постараюсь обосновать мои выводы относительно настоящего времени. Но прежде в краткой форме поставлю вопрос, что привело к появлению этих «двух Веберов». Ответ следует искать в напряженности между стремлением к теоретической согласованности и контекстуальным пониманием термина. Итак, ключ помещается в понятийное поле таким образом, чтобы открылись пути к теоретическим и историческим выводам, а также к диагностике настоящего.
Базовое понятие модерна
Современные общества — это социальные образования, институционализирующие принципы индивидуальной свободы и целеориентированного действия и тем самым обеспечивающие достижение более высокого уровня развития. Таково понятие модерна, сформировавшееся в качестве ядра самопонимания современности и в течение длительного времени определявшее «макросоциологические» исследования социальных формаций и динамики социальных изменений. Даже сегодня оно отнюдь не исчезло, хотя лишь изредка используется в такой всеобъемлющей формулировке (ср.: Wagner, 2020).
Невозможно утверждать, что понятие «модерн» когда-либо встречало единодушное одобрение. В такой интерпретации оно восходит к дюркгеймианской традиции и в эксплицитной форме было сформулировано уже после Второй мировой войны Толкоттом Парсонсом. Затем это понятие легло в основу теории модернизации, во времена холодной войны ставшей привлекательной альтернативой марксизму-ленинизму, прежде всего в американской социологии, хотя последняя ориентировалась преимущественно на количественные и микросоциологические исследования (Latham, 2003). Даже несмотря на социальные потрясения последних 50 лет, теория модернизации остается удивительно живучей, хотя и кажется сегодня уже не такой целостной. Иногда она именуется неомодернизационной теорией (Wagner, 1996; 2003). Критика в адрес этой теории никогда полностью не стихала (как, например, со стороны социологии конфликтов в 1950-е годы). Но чаще всего именно это базовое понятие модерна и модернизации становилось мишенью для важнейших критических течений, таких как Франкфуртская школа и неомарксизм 1970-х годов, феминизм или постколониализм. Модерн приравнивался к атомистическому индивидуализму, пришедшему на место социальных связей, и к инструментальному разуму как средству господства, заменившему интерпретационные дискуссии об отношениях человека с миром. Легче было критиковать модерн с точки зрения его соответствия реальности, чем исследовать его эмпирически или в сравнительно-исторической перспективе.
Если разделить понятие «модерн» на основные составляющие, то обнаружатся четыре элемента: индивидуализм, рационализм, универсализм и акцент на анализе институтов. Упоминание индивидуализма здесь может поначалу удивить, поскольку в соответствии с традицией, восходящей к Дюркгейму и Парсонсу, акцент делался скорее на коллективном понятии «общество» (см.: Wagner, 2000). Впрочем, подобные представления остаются в рамках широко понимаемой традиции Просвещения, которая исходит из свободы индивидов и их разумности. У Дюркгейма это проявляется как моральный индивидуализм, а у Парсонса — в мысли, что современные институты означают институционализацию свободы, поскольку выражают нормы, поддерживаемые и разделяемые индивидами посредством социализации. При такого рода социологическом переосмыслении традиции Просвещения рациональность понимается как повышение эффективности общественных институтов, которое исторически достигается путем функциональной дифференциации, осуществляемой в ходе великих революций эпохи модерна. Благодаря этим достижениям открывается возможность отделить «модерные» общества от домодерных (Parsons, 1964, 1971). Однако последние также стремятся идти по пути к более высокой функциональности, в результате чего «модернизация» становится универсальной тенденцией. Модерные и модернизирующиеся общества различаются только по уровню развития, на котором они находятся. Наконец, из этого краткого описания понятно, что, хотя стандартная теория модерна исходит из человеческого действия, как, например, в ранней работе Парсонса «Структура социального действия» (Parsons, 1937), все же современные социальные образования отличаются своей институциональной структурой, а не формами действия.
Невозможно утверждать, что понятие «модерн» когда-либо встречало единодушное одобрение. В такой интерпретации оно восходит к дюркгеймианской традиции и в эксплицитной форме было сформулировано уже после Второй мировой войны Толкоттом Парсонсом. Затем это понятие легло в основу теории модернизации, во времена холодной войны ставшей привлекательной альтернативой марксизму-ленинизму, прежде всего в американской социологии, хотя последняя ориентировалась преимущественно на количественные и микросоциологические исследования (Latham, 2003). Даже несмотря на социальные потрясения последних 50 лет, теория модернизации остается удивительно живучей, хотя и кажется сегодня уже не такой целостной. Иногда она именуется неомодернизационной теорией (Wagner, 1996; 2003). Критика в адрес этой теории никогда полностью не стихала (как, например, со стороны социологии конфликтов в 1950-е годы). Но чаще всего именно это базовое понятие модерна и модернизации становилось мишенью для важнейших критических течений, таких как Франкфуртская школа и неомарксизм 1970-х годов, феминизм или постколониализм. Модерн приравнивался к атомистическому индивидуализму, пришедшему на место социальных связей, и к инструментальному разуму как средству господства, заменившему интерпретационные дискуссии об отношениях человека с миром. Легче было критиковать модерн с точки зрения его соответствия реальности, чем исследовать его эмпирически или в сравнительно-исторической перспективе.
Если разделить понятие «модерн» на основные составляющие, то обнаружатся четыре элемента: индивидуализм, рационализм, универсализм и акцент на анализе институтов. Упоминание индивидуализма здесь может поначалу удивить, поскольку в соответствии с традицией, восходящей к Дюркгейму и Парсонсу, акцент делался скорее на коллективном понятии «общество» (см.: Wagner, 2000). Впрочем, подобные представления остаются в рамках широко понимаемой традиции Просвещения, которая исходит из свободы индивидов и их разумности. У Дюркгейма это проявляется как моральный индивидуализм, а у Парсонса — в мысли, что современные институты означают институционализацию свободы, поскольку выражают нормы, поддерживаемые и разделяемые индивидами посредством социализации. При такого рода социологическом переосмыслении традиции Просвещения рациональность понимается как повышение эффективности общественных институтов, которое исторически достигается путем функциональной дифференциации, осуществляемой в ходе великих революций эпохи модерна. Благодаря этим достижениям открывается возможность отделить «модерные» общества от домодерных (Parsons, 1964, 1971). Однако последние также стремятся идти по пути к более высокой функциональности, в результате чего «модернизация» становится универсальной тенденцией. Модерные и модернизирующиеся общества различаются только по уровню развития, на котором они находятся. Наконец, из этого краткого описания понятно, что, хотя стандартная теория модерна исходит из человеческого действия, как, например, в ранней работе Парсонса «Структура социального действия» (Parsons, 1937), все же современные социальные образования отличаются своей институциональной структурой, а не формами действия.
Вклад Вебера в базовое понятие модерна
Ясно, что Макс Вебер внес значительный вклад в формирование базового понятия модерна. Во время «спора о методах» он встал на сторону Карла Менгера и критиковал Историческую школу национальной экономики за недостаточный интерес к прояснению понятий. Он эксплицитно предостерегал от простого перенесения «коллективных понятий» из обыденного языка в общественные науки (Weber, 1904: 85), поэтому его имя сегодня не без основания ассоциируется с формированием «методологического индивидуализма». Кроме того, для него важным был и вопрос о формах «ведения жизни» в современных ему условиях (здесь мы находим отголоски беспокойства Токвиля (Tocqueville, 1835-1840) по поводу порождаемой демократией склонности к конформизму). Такая постановка вопроса, часто обсуждаемого сегодня посредством понятия «личной самореализации», помещает в центр внимания отдельную личность (Honneth, 2004).
Более того, Вебера часто прочитывают так, будто он полагал, что «ведение жизни» становится все более «рациональным». При этом акцент может делаться на том, что люди убеждаются в превосходстве «целерационального действия» над другими формами действия именно благодаря характерной для него более высокой форме рациональности (см. обсуждение: Schluchter 1979; критика: Joas 1986).
И как следствие — вытеснение ценностно-рационального и, тем более, аффективного и традиционного действия. Однако сам Вебер никогда так не формулировал свой тезис об усиливающейся рационализации. Из «Протестантской этики» скорее можно сделать гораздо более конкретный вывод: однажды возникшая социальная этика изменяет условия действия для индивидов таким образом, что одна форма действия получает перед другими настолько явные преимущества, что начинает доминировать. Это изменение может принять столь устойчивую для индивида форму, что не просто влияет, а детерминирует его действие.
Веберовские понятия можно интерпретировать и так: «западный рационализм» (Weber, 1986 [1920]) выражает ориентацию действия, а «современный капитализм» — институциональную форму. Если читать Вебера так, что этика ведет к институциональной трансформации, то его анализ модерна из теории действия превращается в теорию институтов. Из «стального каркаса» (stahlharten Gehause) улетучился «дух». Подобное прочтение совпадает с размышлениями Вебера о государстве и бюрократии. Институционализация целей ведет к более высокой общественной рациональности. Амбивалентность взглядов Вебера на модерн сводится к необходимости ограничения индивидуального действия в интересах повышения общественной рациональности.
При таком прочтении рациональность оказывается причиной того, что события, происходящие в западных обществах, получают «универсальное значение». Другие общества не могут уклониться от этой логики развития, потому что более высокая функциональность не только дает западным обществам конкурентные преимущества, но и улучшает условия жизни в них, делая их более привлекательными.
Прочитанные таким образом, социология Вебера в целом и его анализ социальных изменений и происхождения модерна в особенности полностью совместимы с социологией модернизации в духе Парсонса, ставшей доминирующей в 1960-х годах в США. Действительно, Вебера можно интерпретировать и так, но такое одностороннее прочтение возможно лишь узконаправленно ценой игнорирования нюансов. Далее я постараюсь вернуть эти нюансы и амбивалентность понятия в дискуссию о социальной теории и модерне, то есть связанную с рефлексией по поводу трансформации модерна, что велась преимущественно во второй половине XX века.
Более того, Вебера часто прочитывают так, будто он полагал, что «ведение жизни» становится все более «рациональным». При этом акцент может делаться на том, что люди убеждаются в превосходстве «целерационального действия» над другими формами действия именно благодаря характерной для него более высокой форме рациональности (см. обсуждение: Schluchter 1979; критика: Joas 1986).
И как следствие — вытеснение ценностно-рационального и, тем более, аффективного и традиционного действия. Однако сам Вебер никогда так не формулировал свой тезис об усиливающейся рационализации. Из «Протестантской этики» скорее можно сделать гораздо более конкретный вывод: однажды возникшая социальная этика изменяет условия действия для индивидов таким образом, что одна форма действия получает перед другими настолько явные преимущества, что начинает доминировать. Это изменение может принять столь устойчивую для индивида форму, что не просто влияет, а детерминирует его действие.
Веберовские понятия можно интерпретировать и так: «западный рационализм» (Weber, 1986 [1920]) выражает ориентацию действия, а «современный капитализм» — институциональную форму. Если читать Вебера так, что этика ведет к институциональной трансформации, то его анализ модерна из теории действия превращается в теорию институтов. Из «стального каркаса» (stahlharten Gehause) улетучился «дух». Подобное прочтение совпадает с размышлениями Вебера о государстве и бюрократии. Институционализация целей ведет к более высокой общественной рациональности. Амбивалентность взглядов Вебера на модерн сводится к необходимости ограничения индивидуального действия в интересах повышения общественной рациональности.
При таком прочтении рациональность оказывается причиной того, что события, происходящие в западных обществах, получают «универсальное значение». Другие общества не могут уклониться от этой логики развития, потому что более высокая функциональность не только дает западным обществам конкурентные преимущества, но и улучшает условия жизни в них, делая их более привлекательными.
Прочитанные таким образом, социология Вебера в целом и его анализ социальных изменений и происхождения модерна в особенности полностью совместимы с социологией модернизации в духе Парсонса, ставшей доминирующей в 1960-х годах в США. Действительно, Вебера можно интерпретировать и так, но такое одностороннее прочтение возможно лишь узконаправленно ценой игнорирования нюансов. Далее я постараюсь вернуть эти нюансы и амбивалентность понятия в дискуссию о социальной теории и модерне, то есть связанную с рефлексией по поводу трансформации модерна, что велась преимущественно во второй половине XX века.
Знаменитая веберовская метафора «stahl hartes Gehause» традиционно переводится на русский как «железная клетка» — явно вслед за Т. Парсонсом (iron cage). В статье Д. Ю. Куракина «Символические классификации и „железная клетка": две перспективы теоретической социологии» предложен другой вариант перевода — «стальной панцирь». См.: https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/31/1211858155/4—1—3-pdf. — Прим. пер.
Поскольку я к этому еще вернусь, здесь следует полностью процитировать известное высказывание Вебера: «Какое сцепление обстоятельств привело к тому, что именно на Западе, и только здесь, возникли такие явления культуры, которые развивались — по крайней мере, как мы склонны себе представлять — в направлении, получившем универсальный смысл и значимость?» (Weber, 1986 [1920]: 1). [Русский перевод приводится по изданию: Вебер М.Предварительные замечания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М.Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: РОССПЭН. 2006. С. 7. Перевод М. И. Левиной исправлен нами. — Прим, пер.]
Мысль Вебера за рамками базового понятия модерна
Хотя Вебер и поместил человеческую личность в центр своей социологии, однако эта веберовская личность имеет мало общего с тем изолированным целерациональным индивидом, который был формализован в рамках экономической школы предельной полезности и используется сегодня в широко распространившихся за пределами экономической науки теориях рационального выбора. Сближение позиций Вебера и Менгера в споре о методах скорее объясняется критикой недостаточной рефлексивности Исторической школы, нежели полной приверженностью Вебера индивидуализму новой экономики. Соответственно, типы действия должны рассматриваться не как формы убывающей рациональности, а как проявление множественности интерпретаций ситуации действия. И хотя порой идеи Вебера можно отнести к методологическому индивидуализму, все же плодотворнее рассматривать Вебера как мыслителя, избежавшего противопоставления индивидуализма/атомизма и коллективизма/холизма.
Говоря сегодняшним языком, Вебер скорее относится к традиции реляционной социологии, которая исходным пунктом для себя берет человека в социальных отношениях (см. обзор: Emirbayer, 1997). В таком случае типы действия указывают на формы отношений, которые человек поддерживает с другими людьми. Эта традиция старше, чем само понятие социологии, но ранее была слабо систематизирована и скорее использовалась как аргумент в исторических диагнозах. Например, мысль о том, что расширение коммерческих отношений между людьми делает общества более мирными (Монтескье) и/или более состоятельными (Смит), восходит к XVII и XVIII векам (Hirschman, 1977). Позднее, в XIX веке, в качестве реакции на политическую экономию различение между экономическими и — часто нечетко определенными — иными социальными отношениями стало пограничной линией между способами мышления в социальных науках. При этом все чаще экономические отношения определялись как целерациональные и воспринимались как индивидуалистические. Яркий пример этому дали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 1848 года (Marx, Engels, 1974 [1848]), где писали о распаде всех других социальных отношений, утонувших в «ледяной воде эгоистического расчета».
Хотя интеллектуальный контекст у мысли Вебера и таков, представляется неуместным считать его теоретические построения простым следованием двойной модели: индивидуализациии рационализации. Что касается первого момента, как указывалось ранее, Вебера больше интересовала множественность форм социальных связей, чем их распад. В качестве его последователей можно рассматривать представителей экономической антропологии — например, критику коммодификации у Карла Поланьи (Polanyi, 1944) или концептуализацию обмена дарами у Марселя Мосса (Mauss, 2007 [1923-1924]), позже к ним присоединился и Пьер Бурдье (Bourdieu, 1980).
Относительно второго момента новизна работ Вебера заключается не столько в обнаружении или понятийном постижении западного рационализма, сколько в скепсисе по отношению к нему. В своих научных трудах Вебер всегда остается скептиком; именно это вдохновляет его методологические работы. Свою задачу он видит в обнаружении значимых явлений своего времени и понимании причин их возникновения независимо от своего собственного отношения к ним. Однако это не мешает ему давать оценки, которые можно рассматривать как его вклад в проблематизирующую самоинтерпретацию общества — самоинтерпретацию, которая также является легитимной частью понимающей социологии.
Именно в этом духе следует читать знаменитое место в «Протестантской этике», где Вебер размышляет о возвращении к старым идеалам или о появлении новых пророков. Вывод здесь состоит в том, что рациональное овладение [миром] как социальный идеал остается очень хрупким, если это вообще не проявление тенденции к саморазрушению. Вебер-скептик далек от того, чтобы отрицать значение этого идеала, но он предостерегает от его абсолютизации и настаивает на его ограниченности. И в этом отношении можно назвать последователей, которые опять-таки оказываются вне канонизированной традиции социологии как дисциплины. Так, в «Истоках тоталитаризма» Ханна Арендт (Arendt, 1996 [1951]) анализирует национальное государство и капитализм как два основных феномена современных обществ, но показывает, что оба как таковые уже содержат в себе противоречия. Так, требование стабильности политической формы не согласуется с необходимостью неуклонного роста капиталистической экономики. Немного позже Корнелиус Касториадис (например: Castoriadis, 1991) реконструировал принцип автономии, который находится в центре современного смыслополагания, и одновременно показал, что связанный с автономией принцип рационального контроля проявляется в западных обществах как «псевдорациональное псевдогосподство». В настоящее время веру в возможность контроля как роковую характеристику модерна, видимо, прежде всего идентифицирует экологическая критика.
Но если модерн характеризуется не фактическим господством, а верой в достижимость господства, то как тогда обстоит дело с той «универсальной значимостью», которую Вебер приписывает этому модерну? Несомненно то, что Вебер всегда сохранял определенную дистанцию в отношении того «западного» самопонимания, которое сам же разделял. Об этом свидетельствует знаменитое уточнение «по крайней мере, как мы склонны себе представлять» в широко известном месте в его сочинении. Но, следуя этой релятивизации, было бы излишним утверждать, что для Вебера рационализация посредством современного капитализма и бюрократической организации является всего лишь иллюзией. Парсонс и Хабермас правы, когда признают за Вебером выявление западных институциональных достижений, хотя и игнорируют в своих целях амбивалентность его идей.
Исследовательская программа Вебера в области сравнительной социологии религии делает очевидным и то, и другое одновременно: с одной стороны, он считал необходимым подвергнуть проверке тезис о рационализации, выдвинутый в «Протестантской этике». Он прекрасно понимал, что его гипотеза об избирательном сродстве окажется состоятельной только в случае, если будут изучены и другие констелляции этики и рационализма. С другой стороны, его исследовательский дизайн, как сказали бы сегодня, был в высшей степени асимметричным. Он изучал другие мировые религии лишь с точки зрения наличия или отсутствия в них компонентов, которые он обнаружил в протестантизме. Он сделал первый шаг, не сделал обязательного второго. В настоящее время это часто и справедливо критикуется. Впрочем, критики порой недооценивают, что он все-таки сделал этот первый значимый шаг, который многие его современники даже не рассматривали. Таким образом, стал возможен следующий шаг, а именно — симметричное сравнение мировых регионов с точки зрения значимости религиозных или вообще космологических ориентаций, формирующих те или иные цивилизации. Этот шаг был сделан Шмуэлем Айзенштадтом (Eisenstadt, 2000), который сознательно шел за Вебером, выдвигая исследовательскую программу «множественных модернов» (multiple modernities).
Итак, если суммировать вышесказанное, можно утверждать, что самой большой загадкой при интерпретации Вебера является вопрос о том, как в его рассуждениях соотносятся «дух» и «каркас» (Gehause), этика и институты. Проблема возникает из-за того, что Вебер, с одной стороны, выступает против одностороннего материалистического объяснения истории, подчеркивая важность в социальной жизни мотиваций и интерпретаций, но с другой стороны, делает вывод, что с появлением институтов современного капитализма сформировался «стальной каркас», из которого улетучился «дух» и который детерминирует возможности действий человека. При поверхностном взгляде на работы Вебера его методология — интерпретативная социология — часто отделяется от его исторической социологии — рассмотрения появления современного капитализма, и тем самым проблема как бы снимается. Но все же остается некая странность: нынешняя реальность уклоняется от методологического подхода, который, казалось бы, должен применяться ко всем человеческим обществам.
Для решения этой проблемы необходимо сделать следующее. Поскольку понятие «духа» у Вебера заведомо неясно, оно нуждается в дальнейшем обсуждении. И Йохан Арнасон (Arnason, 2005) недавно напомнил о гегелевском различении абсолютного, объективного и субъективного духа. Под абсолютным духом могут пониматься господствующие мировоззрения — религиозные или иные; объективный дух обнаруживается в институтах; и только субъективный дух охватывает мотивации. В таком случае можно считать, что с точки зрения Вебера форма протестантской этики отложилась в институтах как объективный дух и потому субъективный дух в форме непосредственных мотиваций стал избыточным для современного капитализма.
Другой шаг делают Люк Болтански и Эв Кьяпелло, анализируя исторические трансформации «духа капитализма». В соответствии с тенденциями в новейшей теории общества, например, теории структурации Энтони Гидденса (Giddens, 1984), они исходят из того, что в отличие от материальных зданий социальные институты не терпят пустоты, но всегда каким-то образом должны поддерживаться посредством интерпретаций и мотиваций людей. Иными словами, источник институциональных изменений — в новых интерпретациях значения институтов (см. применение: Sewell, 2005). Заново прочитанные в этой перспективе работы Вебера предполагают не исчезновение всякого «духа» из «стального каркаса», а возникновение нового «второго духа» капитализма, который сменяет «первый» протестантский дух и ведет к возникновению организованного капитализма массового производства и во все большей степени — капитализма массового потребления.
Однако не следует упускать из виду одно значимое прозрение Вебера, для выражения которого необходимо новое понятие. Предполагаемое «бегство духа» можно понять лишь в контексте определенного варианта модерна — варианта, который был и остается «проектом». Он заключается в создании институтов, которые больше не должны опираться на мотивации. Уже Иммануил Кант (Kant, 1795: гл. 8) утверждал, что даже «народ, который состоял бы из дьяволов (если только они обладают рассудком)», мог бы создать государство, а именно — правила и институты, которые соответствовали бы дьявольским мотивациям. В современной политико-философской мысли эту попытку связывают с индивидуалистическим либерализмом, тогда как республиканизм исходит из того, что для создания и сохранения свободной общности всегда необходимы буржуазные добродетели. Говоря языком исторической социологии, в истории последних двух столетий аналогичным образом распознаются попытки создать диспозитивы стабилизации общества, например, посредством процедур социальной статистики и построенных на ней техниках репрезентации, которые находят практическое применение в системе страхования, в исследованиях потребительского и электорального поведения, а также в классовом анализе, как, например в разработках Алена Дерозьера (Desrosieres, 1993) в связи с идеями Люка Болтански и Лорана Тевено. Статья Вебера об «объективности» в социальных науках может быть прочитана в этом ключе.
Теперь можно констатировать, что это второе прочтение Вебера оказывается чрезвычайно пространным и в некоторых местах противоречит букве его сочинений. Тем не менее я склонен утверждать, что оно ближе «духу» Вебера, чем первое прочтение. Но возможно, что это — бесплодное утверждение, ибо мы вряд ли сможем приблизиться к интенциям Вебера сильнее, чем это уже было сделано за сто лет интерпретаций его работ. Гораздо важнее, на мой взгляд, понимание того, что устарела интерпретация Парсонса, которая не помогает нам понять нынешний модерн, тогда как второе прочтение вполне в состоянии это сделать.
В дальнейшей части моих размышлений я попытаюсь показать, как следует понимать само это расхождение двух трактовок Вебера. Любой текст открыт для множества интерпретаций, и это тем более верно для столь богатых идеями и прозрениями работ Макса Вебера. Но в данном случае дивергенция постулируется таким образом, что стоит больше задумываться о ее причинах. Кроме того, это следует делать не с целью толкования термина, а для более четкого выявления различий между двумя интерпретациями модерна. Это позволит в заключительной части показать, как Вебер помогает понять модерн XXI века.
Говоря сегодняшним языком, Вебер скорее относится к традиции реляционной социологии, которая исходным пунктом для себя берет человека в социальных отношениях (см. обзор: Emirbayer, 1997). В таком случае типы действия указывают на формы отношений, которые человек поддерживает с другими людьми. Эта традиция старше, чем само понятие социологии, но ранее была слабо систематизирована и скорее использовалась как аргумент в исторических диагнозах. Например, мысль о том, что расширение коммерческих отношений между людьми делает общества более мирными (Монтескье) и/или более состоятельными (Смит), восходит к XVII и XVIII векам (Hirschman, 1977). Позднее, в XIX веке, в качестве реакции на политическую экономию различение между экономическими и — часто нечетко определенными — иными социальными отношениями стало пограничной линией между способами мышления в социальных науках. При этом все чаще экономические отношения определялись как целерациональные и воспринимались как индивидуалистические. Яркий пример этому дали Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» 1848 года (Marx, Engels, 1974 [1848]), где писали о распаде всех других социальных отношений, утонувших в «ледяной воде эгоистического расчета».
Хотя интеллектуальный контекст у мысли Вебера и таков, представляется неуместным считать его теоретические построения простым следованием двойной модели: индивидуализациии рационализации. Что касается первого момента, как указывалось ранее, Вебера больше интересовала множественность форм социальных связей, чем их распад. В качестве его последователей можно рассматривать представителей экономической антропологии — например, критику коммодификации у Карла Поланьи (Polanyi, 1944) или концептуализацию обмена дарами у Марселя Мосса (Mauss, 2007 [1923-1924]), позже к ним присоединился и Пьер Бурдье (Bourdieu, 1980).
Относительно второго момента новизна работ Вебера заключается не столько в обнаружении или понятийном постижении западного рационализма, сколько в скепсисе по отношению к нему. В своих научных трудах Вебер всегда остается скептиком; именно это вдохновляет его методологические работы. Свою задачу он видит в обнаружении значимых явлений своего времени и понимании причин их возникновения независимо от своего собственного отношения к ним. Однако это не мешает ему давать оценки, которые можно рассматривать как его вклад в проблематизирующую самоинтерпретацию общества — самоинтерпретацию, которая также является легитимной частью понимающей социологии.
Именно в этом духе следует читать знаменитое место в «Протестантской этике», где Вебер размышляет о возвращении к старым идеалам или о появлении новых пророков. Вывод здесь состоит в том, что рациональное овладение [миром] как социальный идеал остается очень хрупким, если это вообще не проявление тенденции к саморазрушению. Вебер-скептик далек от того, чтобы отрицать значение этого идеала, но он предостерегает от его абсолютизации и настаивает на его ограниченности. И в этом отношении можно назвать последователей, которые опять-таки оказываются вне канонизированной традиции социологии как дисциплины. Так, в «Истоках тоталитаризма» Ханна Арендт (Arendt, 1996 [1951]) анализирует национальное государство и капитализм как два основных феномена современных обществ, но показывает, что оба как таковые уже содержат в себе противоречия. Так, требование стабильности политической формы не согласуется с необходимостью неуклонного роста капиталистической экономики. Немного позже Корнелиус Касториадис (например: Castoriadis, 1991) реконструировал принцип автономии, который находится в центре современного смыслополагания, и одновременно показал, что связанный с автономией принцип рационального контроля проявляется в западных обществах как «псевдорациональное псевдогосподство». В настоящее время веру в возможность контроля как роковую характеристику модерна, видимо, прежде всего идентифицирует экологическая критика.
Но если модерн характеризуется не фактическим господством, а верой в достижимость господства, то как тогда обстоит дело с той «универсальной значимостью», которую Вебер приписывает этому модерну? Несомненно то, что Вебер всегда сохранял определенную дистанцию в отношении того «западного» самопонимания, которое сам же разделял. Об этом свидетельствует знаменитое уточнение «по крайней мере, как мы склонны себе представлять» в широко известном месте в его сочинении. Но, следуя этой релятивизации, было бы излишним утверждать, что для Вебера рационализация посредством современного капитализма и бюрократической организации является всего лишь иллюзией. Парсонс и Хабермас правы, когда признают за Вебером выявление западных институциональных достижений, хотя и игнорируют в своих целях амбивалентность его идей.
Исследовательская программа Вебера в области сравнительной социологии религии делает очевидным и то, и другое одновременно: с одной стороны, он считал необходимым подвергнуть проверке тезис о рационализации, выдвинутый в «Протестантской этике». Он прекрасно понимал, что его гипотеза об избирательном сродстве окажется состоятельной только в случае, если будут изучены и другие констелляции этики и рационализма. С другой стороны, его исследовательский дизайн, как сказали бы сегодня, был в высшей степени асимметричным. Он изучал другие мировые религии лишь с точки зрения наличия или отсутствия в них компонентов, которые он обнаружил в протестантизме. Он сделал первый шаг, не сделал обязательного второго. В настоящее время это часто и справедливо критикуется. Впрочем, критики порой недооценивают, что он все-таки сделал этот первый значимый шаг, который многие его современники даже не рассматривали. Таким образом, стал возможен следующий шаг, а именно — симметричное сравнение мировых регионов с точки зрения значимости религиозных или вообще космологических ориентаций, формирующих те или иные цивилизации. Этот шаг был сделан Шмуэлем Айзенштадтом (Eisenstadt, 2000), который сознательно шел за Вебером, выдвигая исследовательскую программу «множественных модернов» (multiple modernities).
Итак, если суммировать вышесказанное, можно утверждать, что самой большой загадкой при интерпретации Вебера является вопрос о том, как в его рассуждениях соотносятся «дух» и «каркас» (Gehause), этика и институты. Проблема возникает из-за того, что Вебер, с одной стороны, выступает против одностороннего материалистического объяснения истории, подчеркивая важность в социальной жизни мотиваций и интерпретаций, но с другой стороны, делает вывод, что с появлением институтов современного капитализма сформировался «стальной каркас», из которого улетучился «дух» и который детерминирует возможности действий человека. При поверхностном взгляде на работы Вебера его методология — интерпретативная социология — часто отделяется от его исторической социологии — рассмотрения появления современного капитализма, и тем самым проблема как бы снимается. Но все же остается некая странность: нынешняя реальность уклоняется от методологического подхода, который, казалось бы, должен применяться ко всем человеческим обществам.
Для решения этой проблемы необходимо сделать следующее. Поскольку понятие «духа» у Вебера заведомо неясно, оно нуждается в дальнейшем обсуждении. И Йохан Арнасон (Arnason, 2005) недавно напомнил о гегелевском различении абсолютного, объективного и субъективного духа. Под абсолютным духом могут пониматься господствующие мировоззрения — религиозные или иные; объективный дух обнаруживается в институтах; и только субъективный дух охватывает мотивации. В таком случае можно считать, что с точки зрения Вебера форма протестантской этики отложилась в институтах как объективный дух и потому субъективный дух в форме непосредственных мотиваций стал избыточным для современного капитализма.
Другой шаг делают Люк Болтански и Эв Кьяпелло, анализируя исторические трансформации «духа капитализма». В соответствии с тенденциями в новейшей теории общества, например, теории структурации Энтони Гидденса (Giddens, 1984), они исходят из того, что в отличие от материальных зданий социальные институты не терпят пустоты, но всегда каким-то образом должны поддерживаться посредством интерпретаций и мотиваций людей. Иными словами, источник институциональных изменений — в новых интерпретациях значения институтов (см. применение: Sewell, 2005). Заново прочитанные в этой перспективе работы Вебера предполагают не исчезновение всякого «духа» из «стального каркаса», а возникновение нового «второго духа» капитализма, который сменяет «первый» протестантский дух и ведет к возникновению организованного капитализма массового производства и во все большей степени — капитализма массового потребления.
Однако не следует упускать из виду одно значимое прозрение Вебера, для выражения которого необходимо новое понятие. Предполагаемое «бегство духа» можно понять лишь в контексте определенного варианта модерна — варианта, который был и остается «проектом». Он заключается в создании институтов, которые больше не должны опираться на мотивации. Уже Иммануил Кант (Kant, 1795: гл. 8) утверждал, что даже «народ, который состоял бы из дьяволов (если только они обладают рассудком)», мог бы создать государство, а именно — правила и институты, которые соответствовали бы дьявольским мотивациям. В современной политико-философской мысли эту попытку связывают с индивидуалистическим либерализмом, тогда как республиканизм исходит из того, что для создания и сохранения свободной общности всегда необходимы буржуазные добродетели. Говоря языком исторической социологии, в истории последних двух столетий аналогичным образом распознаются попытки создать диспозитивы стабилизации общества, например, посредством процедур социальной статистики и построенных на ней техниках репрезентации, которые находят практическое применение в системе страхования, в исследованиях потребительского и электорального поведения, а также в классовом анализе, как, например в разработках Алена Дерозьера (Desrosieres, 1993) в связи с идеями Люка Болтански и Лорана Тевено. Статья Вебера об «объективности» в социальных науках может быть прочитана в этом ключе.
Теперь можно констатировать, что это второе прочтение Вебера оказывается чрезвычайно пространным и в некоторых местах противоречит букве его сочинений. Тем не менее я склонен утверждать, что оно ближе «духу» Вебера, чем первое прочтение. Но возможно, что это — бесплодное утверждение, ибо мы вряд ли сможем приблизиться к интенциям Вебера сильнее, чем это уже было сделано за сто лет интерпретаций его работ. Гораздо важнее, на мой взгляд, понимание того, что устарела интерпретация Парсонса, которая не помогает нам понять нынешний модерн, тогда как второе прочтение вполне в состоянии это сделать.
В дальнейшей части моих размышлений я попытаюсь показать, как следует понимать само это расхождение двух трактовок Вебера. Любой текст открыт для множества интерпретаций, и это тем более верно для столь богатых идеями и прозрениями работ Макса Вебера. Но в данном случае дивергенция постулируется таким образом, что стоит больше задумываться о ее причинах. Кроме того, это следует делать не с целью толкования термина, а для более четкого выявления различий между двумя интерпретациями модерна. Это позволит в заключительной части показать, как Вебер помогает понять модерн XXI века.
Попытка понять «двух Веберов»
Любой социально-научный труд, который — как у Вебера — применяется к реалиям настоящего времени, должен выдерживать напряжение между изменением понятий и диагнозом эпохи. Понятия разрабатываются для того, чтобы соотносить социальные ситуации друг с другом. Без понятий каждая ситуация остается уникальной. Работающие понятия обеспечивают соотнесение, которое, во-первых, понятно людям, переживающим определенную ситуацию, то есть они связаны с их опытом, а во-вторых, они делают эту ситуацию объяснимой и за пределами их опыта, соотнося с ней другие пространственно-временные ситуации. Так, Вебер предложил называть современную ему социальную констелляцию в Германии «современным капитализмом», отождествлять ее с констелляциями в США и Великобритании и отличать от тех, что существовали в более ранние времена и в других регионах мира. Сегодня мы продолжаем в основном соглашаться с этой характеристикой.
Благодаря этому различные социальные ситуации подводятся под одно понятие, и таким образом расширяется их понимание. Но в каждой социальной ситуации есть и нечто уникальное, обнаружение которого может быть ограничено понятийным соотнесением с другими ситуациями. Вебер осознавал эту проблему гораздо лучше, чем другие социальные ученые, о чем и свидетельствуют его так называемые методологические труды. Тем не менее он был убежден — хотя каждый раз и сохранял некоторые сомнения — в том, что происходящие социальные процессы делают возможным и осмысленным развитие понятий и подведение под них реальности. Последующие размышления должны продемонстрировать, каким образом он мог прийти к такому убеждению.
Вебер был свидетелем превращения США и Германии в ведущие экономические державы. Это означало, во-первых, конец абсолютного господства Англии — события, которое еще можно было анализировать в рамках политической борьбы между европейскими государствами, хотя Англия была первой глобальной державой. Но с возвышением США и Германии произошла экономическая трансформация, которая по своим последствиям должна была быть более значимой для организации общества, чем даже (первая) Промышленная революция, которая запустила весь этот процесс. Гораздо в большей мере, чем Маркс, Вебер мог наблюдать распространение крупных капиталистических предприятий, когда гражданин-предприниматель уступал главную роль менеджеру, а ремесленник — фабричному рабочему. Вебер отправной точкой этого сдвига считал индивидуальное усердие, которое, однако, привело к рационализации, сопровождавшейся созданием крупных бюрократических организаций не только в виде предприятий, но и в форме политических партий, профсоюзов и средств массовой информации в государственном управлении. Это были процессы коллективизации, которые я в другом месте назвал институционализацией «организованного модерна» (Wagner, 1995). И хотя Вебер наблюдал за этим развитием со скепсисом, в то же время у него появилось достаточно поводов считать его «универсально значимым». С одной стороны, возвышение новой организационной формы рассматривалось в качестве парадигмы нового общества: Ленин вслед за Энгельсом считал немецкую почту образцом социалистической организации; Siemens и AEG разделили между собой европейский рынок электротехнической продукции; инновации Тейлора, а затем Форда превозносились как «белый социализм». С другой стороны, этот исторический момент и был кульминацией территориального освоения планеты европейскими державами. На Берлинской конференции 1884 года они поделили между собой Африку. Погружаясь в исторический контекст, трудно оспаривать правомерность базового понятия модерна, которое в нашем предшествующем изложении во многом соответствует первому прочтению Вебера.
Однако Вебер не поддался искушению взглянуть на модерн, который он наблюдал, как на модель или хотя бы как на нечто долговременное и стабильное. В эту ловушку, как ни парадоксально, попались много десятилетий спустя Толкотт Парсонс и Юрген Хабермас — парадоксально не только потому, что их прочтение отрицает амбивалентность идей Вебера, но и потому, что на образовании понятий у них никак не отразился опыт хрупкости модерна в Европе в первой половине XX века, включавший такие явления, как Русская революция, Великая депрессия, подъем национал-социализма и сталинизма и Вторая мировая война. Вебер наверняка разглядел бы здесь старые идеалы, новых пророков и смещающийся дальше свет культурных проблем. И действительно, были известные попытки включить этот опыт в широко понимаемую историческую политическую социологию. Здесь можно опять-таки лишь упомянуть концепцию Карла Мангейма о фундаментальной демократизации и ее социальных последствиях (Mannheim, 1935), критический анализ коммодификации и социальной реакции на нее у Карла Поланьи и глубокие рассуждения Ханны Арендт об истоках тоталитаризма в империализме и антисемитизме. Но в 1960-е годы ученые предпочитали считать этот опыт оставшимся в прошлом и потому малозначимым для настоящего.
Оглядываясь назад, действительно можно рассматривать 1960-е годы как период глобальной социальной стабильности. Правда, тогда ситуация определялась холодной войной; высадка в заливе Свиней, строительство Берлинской стены и Карибский кризис грозили привести к глобальному военному столкновению. Но пока это удавалось предотвращать, казалось, что на планете установился определенный порядок: «Первый мир» демократического капитализма, «Второй мир» советского социализма и «Третий мир» развивающихся стран. Кроме того, жизненно необходимая конвергенция между «Первым» и «Вторым» мирами и модернизация мира «Третьего» должны были постепенно ликвидировать существовавшие различия в их общественной организации. Эта точка зрения концептуально подкреплялась тем, что в ней прочно подгонялись друг к другу элементы базового понятия модерна, которые в начале века были слабо взаимосвязаны. Это вынуждало считать хрупкость первой половины века исключением, после ее преодоления якобы снова отчетливо обозначилось «направление развития» — понятие, которым пользовался уже Макс Вебер. Таким образом, от «раннего социального государства» прямой путь ведет нас к «государству всеобщего благосостояния», причем минуя Великую депрессию. А «демократизация» оказывается линейной тенденцией или, в крайнем случае, волновым движением, неизбежно идущим от волны к волне.
Другими словами, теория модернизации 1960-х годов предполагала, что люди наконец согласились на постоянное существование в «стальном каркасе» — вопрос о такой возможности Вебер ставил в эксплицитном виде, но не мог или не хотел дать на него ответа. В его время работа над созданием этого «каркаса» уже шла, были отчетливо видны и его преимущества, но отнюдь не его долговременная стабильность. Вернуться к Веберу в 1960-е годы в контексте американской гегемонии и большого оптимизма по поводу прогресса значит приписать его осторожным понятиям определенную телеологию философии истории, которую вряд ли можно найти у самого Вебера (Wagner, 2015а). Кроме того, это также парадоксальным образом означало, что эта телеология имеет лишь скачкообразную природу и обусловлена обстоятельствами. В рамках этих предположений казалось возможным, как отмечалось ранее, прочно поместить «современный капитализм» в рамки базового понятия модерна.
Благодаря этому различные социальные ситуации подводятся под одно понятие, и таким образом расширяется их понимание. Но в каждой социальной ситуации есть и нечто уникальное, обнаружение которого может быть ограничено понятийным соотнесением с другими ситуациями. Вебер осознавал эту проблему гораздо лучше, чем другие социальные ученые, о чем и свидетельствуют его так называемые методологические труды. Тем не менее он был убежден — хотя каждый раз и сохранял некоторые сомнения — в том, что происходящие социальные процессы делают возможным и осмысленным развитие понятий и подведение под них реальности. Последующие размышления должны продемонстрировать, каким образом он мог прийти к такому убеждению.
Вебер был свидетелем превращения США и Германии в ведущие экономические державы. Это означало, во-первых, конец абсолютного господства Англии — события, которое еще можно было анализировать в рамках политической борьбы между европейскими государствами, хотя Англия была первой глобальной державой. Но с возвышением США и Германии произошла экономическая трансформация, которая по своим последствиям должна была быть более значимой для организации общества, чем даже (первая) Промышленная революция, которая запустила весь этот процесс. Гораздо в большей мере, чем Маркс, Вебер мог наблюдать распространение крупных капиталистических предприятий, когда гражданин-предприниматель уступал главную роль менеджеру, а ремесленник — фабричному рабочему. Вебер отправной точкой этого сдвига считал индивидуальное усердие, которое, однако, привело к рационализации, сопровождавшейся созданием крупных бюрократических организаций не только в виде предприятий, но и в форме политических партий, профсоюзов и средств массовой информации в государственном управлении. Это были процессы коллективизации, которые я в другом месте назвал институционализацией «организованного модерна» (Wagner, 1995). И хотя Вебер наблюдал за этим развитием со скепсисом, в то же время у него появилось достаточно поводов считать его «универсально значимым». С одной стороны, возвышение новой организационной формы рассматривалось в качестве парадигмы нового общества: Ленин вслед за Энгельсом считал немецкую почту образцом социалистической организации; Siemens и AEG разделили между собой европейский рынок электротехнической продукции; инновации Тейлора, а затем Форда превозносились как «белый социализм». С другой стороны, этот исторический момент и был кульминацией территориального освоения планеты европейскими державами. На Берлинской конференции 1884 года они поделили между собой Африку. Погружаясь в исторический контекст, трудно оспаривать правомерность базового понятия модерна, которое в нашем предшествующем изложении во многом соответствует первому прочтению Вебера.
Однако Вебер не поддался искушению взглянуть на модерн, который он наблюдал, как на модель или хотя бы как на нечто долговременное и стабильное. В эту ловушку, как ни парадоксально, попались много десятилетий спустя Толкотт Парсонс и Юрген Хабермас — парадоксально не только потому, что их прочтение отрицает амбивалентность идей Вебера, но и потому, что на образовании понятий у них никак не отразился опыт хрупкости модерна в Европе в первой половине XX века, включавший такие явления, как Русская революция, Великая депрессия, подъем национал-социализма и сталинизма и Вторая мировая война. Вебер наверняка разглядел бы здесь старые идеалы, новых пророков и смещающийся дальше свет культурных проблем. И действительно, были известные попытки включить этот опыт в широко понимаемую историческую политическую социологию. Здесь можно опять-таки лишь упомянуть концепцию Карла Мангейма о фундаментальной демократизации и ее социальных последствиях (Mannheim, 1935), критический анализ коммодификации и социальной реакции на нее у Карла Поланьи и глубокие рассуждения Ханны Арендт об истоках тоталитаризма в империализме и антисемитизме. Но в 1960-е годы ученые предпочитали считать этот опыт оставшимся в прошлом и потому малозначимым для настоящего.
Оглядываясь назад, действительно можно рассматривать 1960-е годы как период глобальной социальной стабильности. Правда, тогда ситуация определялась холодной войной; высадка в заливе Свиней, строительство Берлинской стены и Карибский кризис грозили привести к глобальному военному столкновению. Но пока это удавалось предотвращать, казалось, что на планете установился определенный порядок: «Первый мир» демократического капитализма, «Второй мир» советского социализма и «Третий мир» развивающихся стран. Кроме того, жизненно необходимая конвергенция между «Первым» и «Вторым» мирами и модернизация мира «Третьего» должны были постепенно ликвидировать существовавшие различия в их общественной организации. Эта точка зрения концептуально подкреплялась тем, что в ней прочно подгонялись друг к другу элементы базового понятия модерна, которые в начале века были слабо взаимосвязаны. Это вынуждало считать хрупкость первой половины века исключением, после ее преодоления якобы снова отчетливо обозначилось «направление развития» — понятие, которым пользовался уже Макс Вебер. Таким образом, от «раннего социального государства» прямой путь ведет нас к «государству всеобщего благосостояния», причем минуя Великую депрессию. А «демократизация» оказывается линейной тенденцией или, в крайнем случае, волновым движением, неизбежно идущим от волны к волне.
Другими словами, теория модернизации 1960-х годов предполагала, что люди наконец согласились на постоянное существование в «стальном каркасе» — вопрос о такой возможности Вебер ставил в эксплицитном виде, но не мог или не хотел дать на него ответа. В его время работа над созданием этого «каркаса» уже шла, были отчетливо видны и его преимущества, но отнюдь не его долговременная стабильность. Вернуться к Веберу в 1960-е годы в контексте американской гегемонии и большого оптимизма по поводу прогресса значит приписать его осторожным понятиям определенную телеологию философии истории, которую вряд ли можно найти у самого Вебера (Wagner, 2015а). Кроме того, это также парадоксальным образом означало, что эта телеология имеет лишь скачкообразную природу и обусловлена обстоятельствами. В рамках этих предположений казалось возможным, как отмечалось ранее, прочно поместить «современный капитализм» в рамки базового понятия модерна.
Модерн XXI века
Однако с уходом XX века это уже невозможно. С 1970-х годов увеличивалось число наблюдений, подтверждавших, что «модерн» переживает еще больший социальный кризис. Но именно это не предусматривалось базовым понятием модерна: ведь вместе с модерностью (Modernitat) как бы достигалась высшая и в будущем неизменная форма социальной организации. Таким образом, тот, кто разделял мнение о больших изменениях, обязан был переинтерпретировать и само понятие. Компромиссом могло стать предположение, что классический, или «первый» модерн вполне точно характеризовался базовым понятием, но теперь его необходимо переосмыслить. Более радикальный подход требовал поставить под сомнение адекватность базового понятия даже для прошлого модерна.
Многие согласны с тем, что институциональный «каркас» организованного модерна находится в процессе разрушения самое позднее с 1980-х годов. Конец советского социализма можно считать событием, наиболее ярко воплощающим эту деинституционализацию. Но и в целом резко снизилась согласованность — экономических, политических, культурных — институциональных форм, которая, хотя и никогда не достигалась полностью, все же была чем-то большим, чем просто фикцией организованного модерна (Wagner, 1996b). Все дискуссии об упадке национального государства, экономическом дерегулировании или же о фрагментированном Я и текучей идентичности указывают на одно и то же. В 1990-х годах эти тенденции тематизировались в социологии, а также в публичных дискуссиях посредством двойной модели индивидуализации и глобализации (см. обзор: Wagner, 2010а). В своей сильной форме эта концепция утверждала, что мы по всему миру движемся к ситуации, когда все люди окажутся индивидуальными существами, чьи отношения с другими людьми сплошь опутывают всю планеты.
Хотя с начала XXI века эта двойная модель все больше теряла свою убедительность, ее до сих пор так и не заменил какой-либо более адекватный социологический диагноз эпохи, так что она остается фоном для теоретических усилий, направленных на выработку такового. Легко выделить направления развития мысли, которые кратко обсудим здесь в веберовской перспективе.
Первое — неомодернизационная теория, которая опирается на двойную модель индивидуализации и глобализации. Глобализация рассматривается здесь как подтверждение «универсальной значимости» тех процессов, которые когда-то были запущены в Европе. Отсутствие прочных связей с другими людьми опять- таки считается подтверждением индивидуализма и рационализма, но теперь уже в форме преобладания индивидуальной целерациональности как мотивации поведения. В одной из своих работ я описал это самопонимание как забвение исторического времени и нагруженного смыслом пространства (Wagner, 2018). Индивиды не видят ничего за пределами времени своей собственной жизни и следуют своим предпочтениям, воздерживаясь от пространственно структурированных социальных отношений. Часто это считается новым этапом процесса освобождения. Если в парсонсовской интерпретации классической социологии институты современного общества были именно теми сосудами, которые обеспечивали возможность свободного действия, то теперь они рассматриваются как тюрьмы, из которых индивиды должны освободиться. Упускается из виду, что именно отсутствие нагруженных смыслом институтов, то есть «каркаса», делает «неизбежными» индивидуалистически-рационалистические формы поведения.
И здесь становится очевидной необходимость уточнения понятия «дух». Одновременная тенденция к индивидуализации и глобализации ослабляет или даже разрушает институты как «отложения» интерпретаций — институты как объективный дух — и внушает нам, что они больше не нужны, тогда как субъективный дух выражает себя как мотивацию к преследованию индивидуальных целей, создавая тем самым новую и более радикальную форму бездуховности, чем та, которую диагностировал Вебер, — напоминающую дюркгеймовское понятие аномии.
Сегодня, спустя четверть века после появления двойной модели индивидуализации и глобализации, эти тенденции, с одной стороны, остаются заметными, но, с другой стороны, фиксируют и реакции на такую «бездуховность» в виде возвращения к «старым идеалам». Так, связь национализма или религиозного фундаментализма — иногда сочетание обоих — с политическим авторитаризмом может быть понята как попытка воссоздания значимых институтов в ответ на забвение исторического времени и значимого пространства. Поскольку сегодня мы уже не так, как сто лет назад, убеждены в том, что история человечества имеет «направление развития», мы не можем просто квалифицировать подобные попытки как обращенные назад. Однако на фоне истории XIX и XX веков можем констатировать, что, учитывая исторически сложившееся взаимовлияние обществ, проведение четких и труднопреодолимых экономических, культурных и политических границ ведет скорее к игнорированию проблем, которые человечество создало себе в этот период.
Многие согласны с тем, что институциональный «каркас» организованного модерна находится в процессе разрушения самое позднее с 1980-х годов. Конец советского социализма можно считать событием, наиболее ярко воплощающим эту деинституционализацию. Но и в целом резко снизилась согласованность — экономических, политических, культурных — институциональных форм, которая, хотя и никогда не достигалась полностью, все же была чем-то большим, чем просто фикцией организованного модерна (Wagner, 1996b). Все дискуссии об упадке национального государства, экономическом дерегулировании или же о фрагментированном Я и текучей идентичности указывают на одно и то же. В 1990-х годах эти тенденции тематизировались в социологии, а также в публичных дискуссиях посредством двойной модели индивидуализации и глобализации (см. обзор: Wagner, 2010а). В своей сильной форме эта концепция утверждала, что мы по всему миру движемся к ситуации, когда все люди окажутся индивидуальными существами, чьи отношения с другими людьми сплошь опутывают всю планеты.
Хотя с начала XXI века эта двойная модель все больше теряла свою убедительность, ее до сих пор так и не заменил какой-либо более адекватный социологический диагноз эпохи, так что она остается фоном для теоретических усилий, направленных на выработку такового. Легко выделить направления развития мысли, которые кратко обсудим здесь в веберовской перспективе.
Первое — неомодернизационная теория, которая опирается на двойную модель индивидуализации и глобализации. Глобализация рассматривается здесь как подтверждение «универсальной значимости» тех процессов, которые когда-то были запущены в Европе. Отсутствие прочных связей с другими людьми опять- таки считается подтверждением индивидуализма и рационализма, но теперь уже в форме преобладания индивидуальной целерациональности как мотивации поведения. В одной из своих работ я описал это самопонимание как забвение исторического времени и нагруженного смыслом пространства (Wagner, 2018). Индивиды не видят ничего за пределами времени своей собственной жизни и следуют своим предпочтениям, воздерживаясь от пространственно структурированных социальных отношений. Часто это считается новым этапом процесса освобождения. Если в парсонсовской интерпретации классической социологии институты современного общества были именно теми сосудами, которые обеспечивали возможность свободного действия, то теперь они рассматриваются как тюрьмы, из которых индивиды должны освободиться. Упускается из виду, что именно отсутствие нагруженных смыслом институтов, то есть «каркаса», делает «неизбежными» индивидуалистически-рационалистические формы поведения.
И здесь становится очевидной необходимость уточнения понятия «дух». Одновременная тенденция к индивидуализации и глобализации ослабляет или даже разрушает институты как «отложения» интерпретаций — институты как объективный дух — и внушает нам, что они больше не нужны, тогда как субъективный дух выражает себя как мотивацию к преследованию индивидуальных целей, создавая тем самым новую и более радикальную форму бездуховности, чем та, которую диагностировал Вебер, — напоминающую дюркгеймовское понятие аномии.
Сегодня, спустя четверть века после появления двойной модели индивидуализации и глобализации, эти тенденции, с одной стороны, остаются заметными, но, с другой стороны, фиксируют и реакции на такую «бездуховность» в виде возвращения к «старым идеалам». Так, связь национализма или религиозного фундаментализма — иногда сочетание обоих — с политическим авторитаризмом может быть понята как попытка воссоздания значимых институтов в ответ на забвение исторического времени и значимого пространства. Поскольку сегодня мы уже не так, как сто лет назад, убеждены в том, что история человечества имеет «направление развития», мы не можем просто квалифицировать подобные попытки как обращенные назад. Однако на фоне истории XIX и XX веков можем констатировать, что, учитывая исторически сложившееся взаимовлияние обществ, проведение четких и труднопреодолимых экономических, культурных и политических границ ведет скорее к игнорированию проблем, которые человечество создало себе в этот период.
Модерн XXI века и Макс Вебер
В заключение я хотел бы кратко продемонстрировать, как мысль Вебера при втором прочтении может помочь нам понять модерн XXI века. Для этого мы можем начать с теории множественных модернов. Как упоминалось выше, Шмуэль Айзенштадт при разработке этого подхода опирается на сравнительную социологию религии Вебера. Иными словами, речь пойдет об интерпретативной социологии, которая при постижении социальных констелляций исходит из самопонимания людей. Как и у Вебера, здесь присутствует интерес к сравнительному изучению глобальной ситуации по регионам мира. Сопоставимое с веберовским, но выходящее за его пределы сравнение строится симметрично: не только в других местах ищется нечто, характеризующее Запад, но и открывается перспектива для различения трех значений понятия «дух».
Очевидно, что здесь речь идет о слабом универсализме, который создает понятийную основу для понимания всех социальных констелляций и, опираясь на нее, проводит глобальный сравнительный анализ интерпретативного многообразия социального самопонимания (см.: Wagner, 2015b). Выходя за рамки подхода Айзенштадта, следует отказаться от представления об устойчивых пространственно- временных контейнерах, вмещающих различные виды культурного самопонимания, и учитывать как пространственное переплетение образцов интерпретации, так и их трансформации с течением времени (Randeria, 1999; Wagner, 2010b). Преобладающая в том или ином регионе интерпретация модерна всегда оказывается результатом исторического опыта и его интерпретации. Подобный подход может помочь понять расширение некоторых видов социального самопонимания, вплоть до глобального распространения, а также формирование его новых региональных вариантов: например, процессы самопонимания в Южной Африке после отмены апартеида, в Бразилии после окончания военной диктатуры или в России после распада Советского Союза. Создание объединения БРИКС опять-таки является попыткой связать между собой такие процессы переинтерпретации.
При этом, конечно, следует иметь в виду пределы таких процессов самопонимания. Как указывалось выше, в нынешнем глобальном контексте они протекают между двумя крайностями: с одной стороны, это окончательное преобладание комбинации индивидуализма и целерациональности, с другой — ограничение взаимопонимания посредством авторитарных мер и закрытости от глобальных коммуникационных процессов. Обе эти крайности обладают большой привлекательностью для господствующих групп и поддерживаются ими из инструментальных властных соображений во многих регионах мира. Но везде есть и значимые попытки пройти между этими крайностями. Тогда это приводит, с одной стороны, к отказу от радикального индивидуализма, укреплению социальных связей и созданию новых форм солидарности, а с другой стороны, к отказу от мифа о достижимости контроля, характерного для модерна, и к пониманию как возможностей, так и пределов человеческого действия. Оба элемента необходимы для того, чтобы прийти к адекватному пониманию наиболее острых в настоящее время глобальных проблем, а именно — глобальной социальной и глобальной экологической справедливости.
Глобальное социальное неравенство и эксплуатация природных ресурсов планеты являются следствием колониализма и индустриализма, которые нашли отражение в попытке Вебера понять особенности западного рационализма. К началу XXI века накопилось столько последствий этого модерна, что возникла насущная потребность в новом его понимании. Мы попытались показать, что интуиции Вебера при их нюансированном прочтении могут быть по-прежнему полезны для выработки такого понимания.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. №4
Очевидно, что здесь речь идет о слабом универсализме, который создает понятийную основу для понимания всех социальных констелляций и, опираясь на нее, проводит глобальный сравнительный анализ интерпретативного многообразия социального самопонимания (см.: Wagner, 2015b). Выходя за рамки подхода Айзенштадта, следует отказаться от представления об устойчивых пространственно- временных контейнерах, вмещающих различные виды культурного самопонимания, и учитывать как пространственное переплетение образцов интерпретации, так и их трансформации с течением времени (Randeria, 1999; Wagner, 2010b). Преобладающая в том или ином регионе интерпретация модерна всегда оказывается результатом исторического опыта и его интерпретации. Подобный подход может помочь понять расширение некоторых видов социального самопонимания, вплоть до глобального распространения, а также формирование его новых региональных вариантов: например, процессы самопонимания в Южной Африке после отмены апартеида, в Бразилии после окончания военной диктатуры или в России после распада Советского Союза. Создание объединения БРИКС опять-таки является попыткой связать между собой такие процессы переинтерпретации.
При этом, конечно, следует иметь в виду пределы таких процессов самопонимания. Как указывалось выше, в нынешнем глобальном контексте они протекают между двумя крайностями: с одной стороны, это окончательное преобладание комбинации индивидуализма и целерациональности, с другой — ограничение взаимопонимания посредством авторитарных мер и закрытости от глобальных коммуникационных процессов. Обе эти крайности обладают большой привлекательностью для господствующих групп и поддерживаются ими из инструментальных властных соображений во многих регионах мира. Но везде есть и значимые попытки пройти между этими крайностями. Тогда это приводит, с одной стороны, к отказу от радикального индивидуализма, укреплению социальных связей и созданию новых форм солидарности, а с другой стороны, к отказу от мифа о достижимости контроля, характерного для модерна, и к пониманию как возможностей, так и пределов человеческого действия. Оба элемента необходимы для того, чтобы прийти к адекватному пониманию наиболее острых в настоящее время глобальных проблем, а именно — глобальной социальной и глобальной экологической справедливости.
Глобальное социальное неравенство и эксплуатация природных ресурсов планеты являются следствием колониализма и индустриализма, которые нашли отражение в попытке Вебера понять особенности западного рационализма. К началу XXI века накопилось столько последствий этого модерна, что возникла насущная потребность в новом его понимании. Мы попытались показать, что интуиции Вебера при их нюансированном прочтении могут быть по-прежнему полезны для выработки такого понимания.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ. 2019. Т. 18. №4
~
Сподобалась стаття? Подаруйте нам, будь-ласка, чашку кави й ми ще більш прискоримося та вдосконалимося задля Вас.) SG SOFIA - медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!