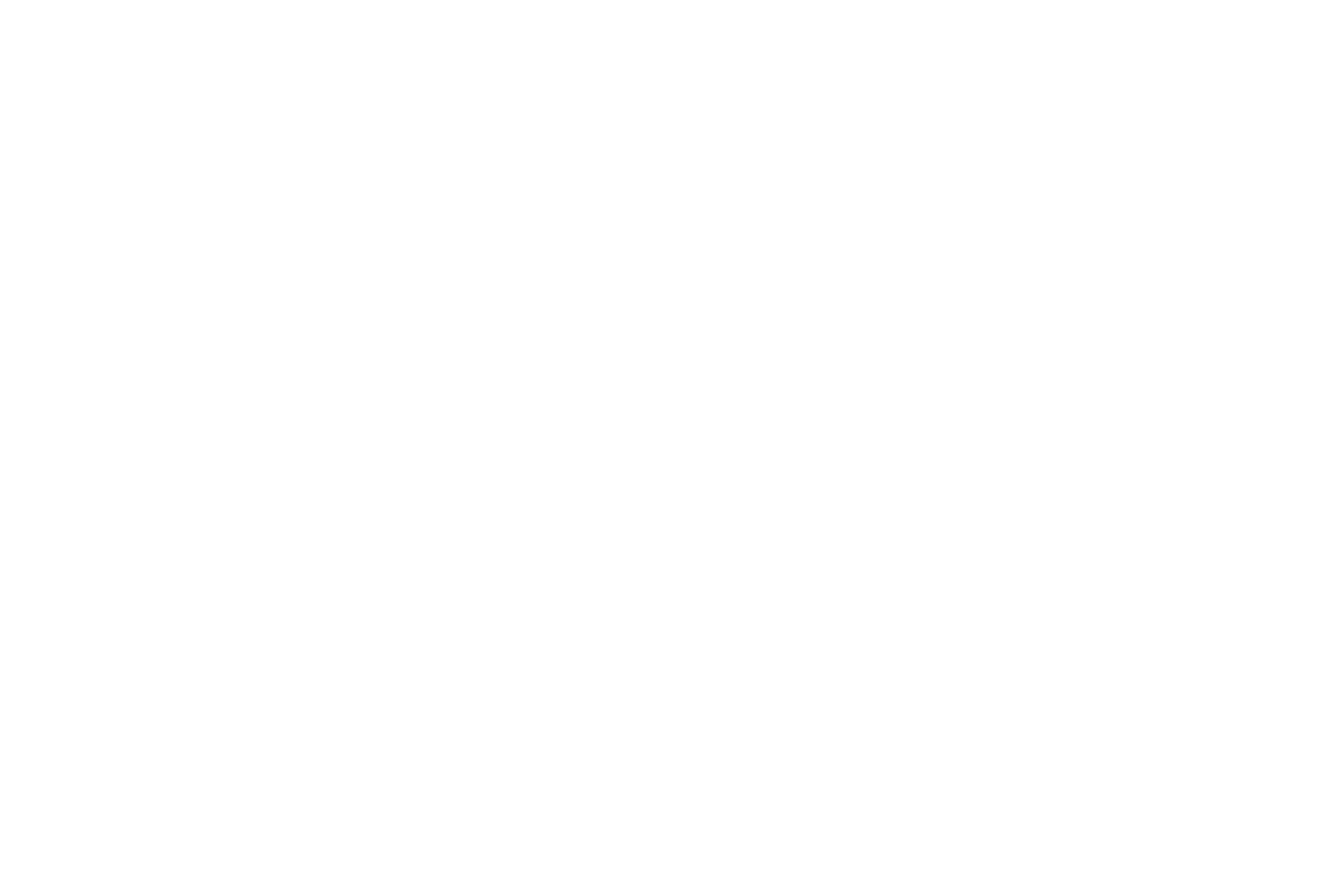© 2019 Strategic Group.Media
НОВЫЕ ВОЙНЫ
О возвращении одной исторической модели
О возвращении одной исторической модели
Три предварительных замечания
ТЕЗИСЫ о фундаментальных изменениях методов ведения войны мы с Мэри Калдор сформулировали и полемически заострили наши тезисы в форме теоремы новых войн. Тезисы подвергались критике в том числе потому, что эти якобы «новые войны» нельзя с уверенностью назвать совершенно новыми: во многих отношениях они схожи с колониальными войнами за пределами Европы, то есть представляют собой возврат к более ранним формам ведения военных действий. В посвященных этой теме работах я, конечно же, не утверждал, что в новых войнах, как называем их мы с Мэри Калдор, изменилось абсолютно все. Мой основной тезис заключался в том, что те системы регулирования войны и мира, которые европейцы разрабатывали с XVII века, но сами никогда в полной мере не применяли в колониальных войнах на территориях Америки, Азии и Африки, не были обязательными и универсальными, а современные войны ведутся уже и вовсе без оглядки на принятые в Европе регуляционные системы.
Но и в этом не было ничего нового. Действительно новой была связанная с Лигой Наций, а позже с ООН надежда на то, что европейская система все больше глобализуется и процесс глобализации способствует повсеместному распространению положений, к которым Европа пришла в середине XX века: войны себя не оправдывают, и весьма разумно будет полностью отказаться от попыток утверждать свои интересы и претензии посредством военного насилия. Эта надежда была напрямую связана с глобализацией европейской системы регулирования войны и мира: войн больше не будет, так как власти стран Северного полушария перестанут развязывать их за его пределами. Иначе на весь мир распространится позиция Европы, согласно которой стоимость войны оказывается настолько высока, что она неспособна окупиться даже при благополучном исходе. Эту перспективу всеобщего мира не оспаривали даже самые ярые критики европоцентризма. Теория новых войн, в свою очередь, доказывает, что уже не существует некоторых условий, необходимых для того, чтобы эти надежды оправдались, а потому не стоит ожидать воцарения всеобщего мира, как второго пришествия. Серьезные возражения против теории новых войн связаны скорее со следующими из нее логическими выводами, чем с наблюдениями, которые в ней содержатся. Претензии к ней носят преимущественнополитический, но не научныйхарактер. Это первое замечание, предваряющее дальнейшие размышления.
Помимо наблюдения за рядом войн совершенно нового типа — тех, что начались после завершения холодной войны, а потому не могут рассматриваться как опосредованные войны между государствами богатого Севера за сферы влияния или геополитическую гегемонию, — какие элементы системы помешали воплотиться возникшим после холодной войны надеждам на то, что войны исчезнут из общественной и политической жизни? В теории новых войн на этот вопрос дается два ответа: Мэри Калдор в своих работах, посвященных в первую очередь исследованию югославских войн конца 1990-х годов, объясняла структурную новизну новых войн тем, что превосходство интересов было заменено ориентированностью на коллективную идентичность как в этническом, так и в религиозно-конфессиональном смысле. Я, в свою очередь, указывал на то, что война может приносить экономическую выгоду целому ряду заинтересованных лиц как раз потому, что вести ее теперь стало значительно дешевле. Поиск идентичности в эпоху глобализации и изменение экономических взаимосвязей, таким образом, оказываются ключевыми причинами возникновения новых войн.
Стоимость войны падает в первую очередь в регионах, подвластных полевым командирам (Warlords). Для своих военных нужд они покупают дешевое оружие на переполненных оружейных складах государств бывшего ост-блока, вербуют несовершеннолетних, а ради повышения мобильности армии захватывают транспортные средства, принадлежащие ООН и различным гуманитарным организациям, и используют их как транспорт или боевые машины, оснащая пулеметами и пусковыми ракетными установками. Стоимость обычных войн слишком высока из-за необходимости развивать и поддерживать различные военные подразделения, морской флот и авиацию. Но для полевых командиров это не имеет значения: они воюют не с современными армиями, но в первую очередь с себе подобными, или терроризируют мирное население, принуждая его оказывать необходимые услуги, или занимаются мародерством. Они не хотят брать на себя ответственность за материальное обеспечение мирного населения на оккупированных территориях, создавать или сохранять необходимую инфраструктуру, начиная с транспорта и заканчивая системой здравоохранения. Отчетность о военных расходах и прибыли ведется в подобных вооруженных формированиях иначе, чем в государственных армиях.
Поскольку военно-полевые командиры отказываются от всего, что повышает стоимость военных действий, они способны вести войну без особых затрат. У некоторых из них, вероятно, есть политический проект, ориентированный на классическую государственную модель, другие же — и их, судя по всему,
Но и в этом не было ничего нового. Действительно новой была связанная с Лигой Наций, а позже с ООН надежда на то, что европейская система все больше глобализуется и процесс глобализации способствует повсеместному распространению положений, к которым Европа пришла в середине XX века: войны себя не оправдывают, и весьма разумно будет полностью отказаться от попыток утверждать свои интересы и претензии посредством военного насилия. Эта надежда была напрямую связана с глобализацией европейской системы регулирования войны и мира: войн больше не будет, так как власти стран Северного полушария перестанут развязывать их за его пределами. Иначе на весь мир распространится позиция Европы, согласно которой стоимость войны оказывается настолько высока, что она неспособна окупиться даже при благополучном исходе. Эту перспективу всеобщего мира не оспаривали даже самые ярые критики европоцентризма. Теория новых войн, в свою очередь, доказывает, что уже не существует некоторых условий, необходимых для того, чтобы эти надежды оправдались, а потому не стоит ожидать воцарения всеобщего мира, как второго пришествия. Серьезные возражения против теории новых войн связаны скорее со следующими из нее логическими выводами, чем с наблюдениями, которые в ней содержатся. Претензии к ней носят преимущественнополитический, но не научныйхарактер. Это первое замечание, предваряющее дальнейшие размышления.
Помимо наблюдения за рядом войн совершенно нового типа — тех, что начались после завершения холодной войны, а потому не могут рассматриваться как опосредованные войны между государствами богатого Севера за сферы влияния или геополитическую гегемонию, — какие элементы системы помешали воплотиться возникшим после холодной войны надеждам на то, что войны исчезнут из общественной и политической жизни? В теории новых войн на этот вопрос дается два ответа: Мэри Калдор в своих работах, посвященных в первую очередь исследованию югославских войн конца 1990-х годов, объясняла структурную новизну новых войн тем, что превосходство интересов было заменено ориентированностью на коллективную идентичность как в этническом, так и в религиозно-конфессиональном смысле. Я, в свою очередь, указывал на то, что война может приносить экономическую выгоду целому ряду заинтересованных лиц как раз потому, что вести ее теперь стало значительно дешевле. Поиск идентичности в эпоху глобализации и изменение экономических взаимосвязей, таким образом, оказываются ключевыми причинами возникновения новых войн.
Стоимость войны падает в первую очередь в регионах, подвластных полевым командирам (Warlords). Для своих военных нужд они покупают дешевое оружие на переполненных оружейных складах государств бывшего ост-блока, вербуют несовершеннолетних, а ради повышения мобильности армии захватывают транспортные средства, принадлежащие ООН и различным гуманитарным организациям, и используют их как транспорт или боевые машины, оснащая пулеметами и пусковыми ракетными установками. Стоимость обычных войн слишком высока из-за необходимости развивать и поддерживать различные военные подразделения, морской флот и авиацию. Но для полевых командиров это не имеет значения: они воюют не с современными армиями, но в первую очередь с себе подобными, или терроризируют мирное население, принуждая его оказывать необходимые услуги, или занимаются мародерством. Они не хотят брать на себя ответственность за материальное обеспечение мирного населения на оккупированных территориях, создавать или сохранять необходимую инфраструктуру, начиная с транспорта и заканчивая системой здравоохранения. Отчетность о военных расходах и прибыли ведется в подобных вооруженных формированиях иначе, чем в государственных армиях.
Поскольку военно-полевые командиры отказываются от всего, что повышает стоимость военных действий, они способны вести войну без особых затрат. У некоторых из них, вероятно, есть политический проект, ориентированный на классическую государственную модель, другие же — и их, судя по всему,
большинство— хотят лишь достаточно долго использовать ресурсы захваченных территорий и превратить их в стабильный капитал. Для этого они заключают стратегические союзы с международными криминальными группировками и получают серьезную прибыль от нелегальной торговли. Они не заботятся о последствиях разрушений в разграбленных ими районах, предоставляя заботу о местном населении и восстановление опустошенных областей международному сообществу и его благотворительным организациям.
Так полевые командиры снова превращают войну в экономический ресурс, который не только обеспечивает их существование, но и снабжает необходимыми запасами. В некотором смысле эти люди — призраки кондотьеров, игравших важнейшую роль в военном деле с XV по XVII век.
Этот «возврат» к довестфальскому порядку, то есть выход за пределы системы согласованных государственных отношений и регуляции войны и мира, утвержденной в мирных договорах Мюнстера и Оснабрюка (так называемом Вестфальском мире), по своей военной жестокости напоминает обстоятельства Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Она охватила значительную часть территории Германии и унесла жизни четверти или даже трети населения затронутых конфликтом районов. Причина огромного количества жертв, однако, не в масштабных боях и сражениях (в отличие от войн эпохи Вестфальской системы), но в сочетании военного насилия, голода и нескольких волн эпидемий, уничтоживших значительную часть населения страны. Именно поэтому в свою книгу «Новые войны», опубликованную в 2002 году, я включил главу «Тридцатилетняя война как образец и инструмент анализа новых войн», в которой речь идет не столько о структурных моделях, сколько о сходстве феноменов. Структурные же модели, в которых прослеживается сходство современных войн с Тридцатилетней, я подробно (имплицитно и эксплицитно) рассматривал в своем исследовании о ней, основанном на тезисе, что эпоха Вестфальской системы завершилась. Это второе достаточно развернутое предварительное замечание.
Некоторое время назад на торжественном заседании в Оснабрюке Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда еще занимавший пост министра иностранных дел Германии, говорил о том, что Ближнему Востоку необходим свой «Вестфальский мир», скроенный по его собственной мерке. Насколько подробно министр, его советники или спичрайтеры разобрались в договорах Мюнстера и Оснабрюка? Была ли это просто дань уважения месту? Или Штайнмайер действительно сравнил Тридцатилетнюю войну с нынешним положением дел на Ближнем Востоке, дабы привлечь внимание к тому, что этим регионам необходим процесс по заключению мира, подобный процессу, проходившему с 1644 по 1648 или 1650 год? Это размышление было бы достойно внимания, ведь в преамбуле Вестфальского договора говорится о необходимости установить вечный мир. Из этого ничего не вышло: уже через несколько лет на территории империи разгорелись новые войны, но уже совсем другого рода. О типологии войн или, точнее, об изменении и замещении одного типа войны другим и пойдет речь далее. Если бы Штайнмайер учитывал изменения в системе регуляции войны и мира, он ставил бы во главу угла не завершение войны как таковой, но скорее разделение гражданских и межгосударственных войн, религиозных войн и войн за гегемонию. Это было бы достойное заявление, непосредственно связанное с реальной политикой. И это третье предварительное замечание, относящееся к вопросу о том, что мы имеем в виду, когда рассматриваем Вестфальский мир не только как исторический факт, но и как образец для прекращения войн современности.
Этот «возврат» к довестфальскому порядку, то есть выход за пределы системы согласованных государственных отношений и регуляции войны и мира, утвержденной в мирных договорах Мюнстера и Оснабрюка (так называемом Вестфальском мире), по своей военной жестокости напоминает обстоятельства Тридцатилетней войны 1618-1648 годов. Она охватила значительную часть территории Германии и унесла жизни четверти или даже трети населения затронутых конфликтом районов. Причина огромного количества жертв, однако, не в масштабных боях и сражениях (в отличие от войн эпохи Вестфальской системы), но в сочетании военного насилия, голода и нескольких волн эпидемий, уничтоживших значительную часть населения страны. Именно поэтому в свою книгу «Новые войны», опубликованную в 2002 году, я включил главу «Тридцатилетняя война как образец и инструмент анализа новых войн», в которой речь идет не столько о структурных моделях, сколько о сходстве феноменов. Структурные же модели, в которых прослеживается сходство современных войн с Тридцатилетней, я подробно (имплицитно и эксплицитно) рассматривал в своем исследовании о ней, основанном на тезисе, что эпоха Вестфальской системы завершилась. Это второе достаточно развернутое предварительное замечание.
Некоторое время назад на торжественном заседании в Оснабрюке Франк-Вальтер Штайнмайер, тогда еще занимавший пост министра иностранных дел Германии, говорил о том, что Ближнему Востоку необходим свой «Вестфальский мир», скроенный по его собственной мерке. Насколько подробно министр, его советники или спичрайтеры разобрались в договорах Мюнстера и Оснабрюка? Была ли это просто дань уважения месту? Или Штайнмайер действительно сравнил Тридцатилетнюю войну с нынешним положением дел на Ближнем Востоке, дабы привлечь внимание к тому, что этим регионам необходим процесс по заключению мира, подобный процессу, проходившему с 1644 по 1648 или 1650 год? Это размышление было бы достойно внимания, ведь в преамбуле Вестфальского договора говорится о необходимости установить вечный мир. Из этого ничего не вышло: уже через несколько лет на территории империи разгорелись новые войны, но уже совсем другого рода. О типологии войн или, точнее, об изменении и замещении одного типа войны другим и пойдет речь далее. Если бы Штайнмайер учитывал изменения в системе регуляции войны и мира, он ставил бы во главу угла не завершение войны как таковой, но скорее разделение гражданских и межгосударственных войн, религиозных войн и войн за гегемонию. Это было бы достойное заявление, непосредственно связанное с реальной политикой. И это третье предварительное замечание, относящееся к вопросу о том, что мы имеем в виду, когда рассматриваем Вестфальский мир не только как исторический факт, но и как образец для прекращения войн современности.
Некоторые особенности новых войн
Одна из характерных особенностей европейской военной истории с раннего Средневековья и вплоть до XX века—непрерывный рост цен на создание военной мощи. Поначалу для решения территориальных конфликтов в форме военного противостояния было достаточно лишь замка, нескольких лошадей, оружия и доспехов, а также небольшой дружины. Но со временем расходы, необходимые для успешного ведения войны, непрерывно возрастали. Благодаря развитию оружейной индустрии и пространственному расширению сфер влияния с XV-XVI столетий с успехом вести войну могли только те, у кого в распоряжении имелись пехота, кавалерия и артиллерия, а это означало, что численность войска постоянно возрастала лишь за счет его более сложного внутреннего устройства. Эта тенденция проявлялась и в соотношении нападения и обороны: с появлением литых пушек высокие замковые стены потеряли свою защитную функцию—чем выше они были, тем проще их было разрушить. На месте замков стали появляться обширные крепостные комплексы с бастионами, на которых устанавливались пушки и в которых, благодаря их ширине и глубине, пробить брешь было куда сложнее, чем в более ранних замковых или городских стенах. Но сооружение и содержание подобных укреплений было куда дороже, чем строительство обычного замка, а осада замка, в свою очередь, обходилась значительно дешевле осады крепости. Повышение стоимости войны привело к тому, что круг лиц, способных ее вести, постепенно сужался — до тех пор, пока эту способность не сохранили лишь большие территориальные государства. Процесс развития ускорялся еще и потому, что призывные или наемные отряды заменялись регулярными армиями — miles perpetuus,— которые должны были сохраняться в мирное время и при необходимости быстро переходить с мирного положения на военное. Однако формирование постоянной армии было необходимо не только из-за все более стремительного перехода от мира к войне. К этому принуждало и развитие тактики, ведь теперь исход сражения зависел от дисциплинированности пехоты и использования различных типов войск. Обеспечить тактическое объединение разных отрядов и осуществить оперативную совместную работу нескольких вооруженных подразделений гораздо дороже, чем разбудить боевой дух солдат перед атакой (для чего не нужна продолжительная строевая подготовка). Но подобная тактическая работа возможна только в регулярной армии, а содержать ее постоянно могут себе позволить лишь территориальные государства с соответствующим стабильным налоговым доходом. В Европе развитие налоговых государств и усовершенствование военной промышленности шли рука об руку. Этот процесс поддерживался и международным военным правом, которое связало право объявления войны —crusad helium— с независимостью правителей. Предписанное и фактическое развитие дополняли друг друга.
С началом индустриальной революции эти процессы разивались еще стремительнее, ведь теперь войну могли вести лишь государства, которые обладали соответствующей военной индустрией, позволявшей им участвовать в бесконечной гонке за самыми современными технологиями. С середины XX века лишь две системы власти, или, точнее, лишь две властные коалиции, были в состоянии вести большую войну друг против друга: на одной стороне «Запад» — США и государства, связанные с ними через НАТО, на другой — «Восток», Советский Союз и заключенные им в рамках Варшавского договора альянсы. Если учитывать разрушительную силу боевых систем, находившихся в распоряжении обеих сторон, и в особенности ядерное оружие, становится совершенно очевидно, что эту войну было необходимо предотвратить, ведь в подобных обстоятельствах никакие политические цели больше не могли бы ее оправдать. Увеличение стоимости войны привело к уменьшению количества лиц, способных ее вести. Это, в свою очередь, снизило вероятность самого возникновения подобной войны, ведь теперь появилась возможность обдуманно взвесить все расходы и прибыль. Можно было ожидать, что военное насилие рано или поздно исчезнет из политического арсенала. Надежда на мир после событий 1989-1990 годов в значительной степени основывалась на этом развитии, все ждали, что оно завершится вместе с падением Советской империи.
Как уже отмечено, одно из важнейших свойств новых войн заключается в том, что со временем количество людей, участвующих в военных действиях, не уменьшается. Удешевление войны привело к резкому увеличению количества воюющих, в результате стало очевидно, что не стоит рассчитывать на наступление эпохи всеобщего мира, по крайней мере сейчас. Для этого было бы необходимо, чтобы государства оставались «властителями войн». Однако, согласно одному из центральных положений теории новых войн, они таковыми уже не являются.
С началом индустриальной революции эти процессы разивались еще стремительнее, ведь теперь войну могли вести лишь государства, которые обладали соответствующей военной индустрией, позволявшей им участвовать в бесконечной гонке за самыми современными технологиями. С середины XX века лишь две системы власти, или, точнее, лишь две властные коалиции, были в состоянии вести большую войну друг против друга: на одной стороне «Запад» — США и государства, связанные с ними через НАТО, на другой — «Восток», Советский Союз и заключенные им в рамках Варшавского договора альянсы. Если учитывать разрушительную силу боевых систем, находившихся в распоряжении обеих сторон, и в особенности ядерное оружие, становится совершенно очевидно, что эту войну было необходимо предотвратить, ведь в подобных обстоятельствах никакие политические цели больше не могли бы ее оправдать. Увеличение стоимости войны привело к уменьшению количества лиц, способных ее вести. Это, в свою очередь, снизило вероятность самого возникновения подобной войны, ведь теперь появилась возможность обдуманно взвесить все расходы и прибыль. Можно было ожидать, что военное насилие рано или поздно исчезнет из политического арсенала. Надежда на мир после событий 1989-1990 годов в значительной степени основывалась на этом развитии, все ждали, что оно завершится вместе с падением Советской империи.
Как уже отмечено, одно из важнейших свойств новых войн заключается в том, что со временем количество людей, участвующих в военных действиях, не уменьшается. Удешевление войны привело к резкому увеличению количества воюющих, в результате стало очевидно, что не стоит рассчитывать на наступление эпохи всеобщего мира, по крайней мере сейчас. Для этого было бы необходимо, чтобы государства оставались «властителями войн». Однако, согласно одному из центральных положений теории новых войн, они таковыми уже не являются.
В результате удешевления войны произошла рекоммерциализация военного насилия, которая снова превратила войну в привлекательный инструмент преследования определенных (совсем не обязательно политических) интересов.
Одним из условий этого стало переформирование открытой военной экономики, ресурсы которой не могли быть исчерпаны. При таком экономическом устройстве участники военных действий через теневые каналы налаживали связи с процветающими экономическими центрами и неограниченно использовали их ресурсы. Поэтому их силы не ослабевали в ходе войны, следовательно, в заключении мирного договора не было необходимости. Классическое территориальное государство преимущественно основывалось на закрытой системе военной экономики, которая включала налоговые доходы, мобилизуемую армию, военную промышленность, размещенную в его пределах, а также терпимость и самопожертвование населения. Когда все эти ресурсы исчерпывались и возможности их восстановить уже не было, война заканчивалась. В классических войнах наряду с военной победой над вражескими вооруженными силами важную роль играет и экономическое истощение ресурсов противника: «обезвоживание» его военной экономики. Морские державы чаще всего использовали блокаду как средство борьбы с материковыми государствами, чтобы парализовать вражескую военную экономику, обескровить ее и выиграть войну.
В последние десятилетия международное сообщество, оказавшись на пороге объявления военной блокады, обращается к экономическим санкциям как способу насаждения своих норм и правил в государствах, где эти нормы и правила очевидным образом игнорируются. В большинстве случаев эти санкции следуют за преступлениями против прав человека или несоблюдением политики вооружения, в ходе которого кто-то пытается стать участником военных действий — как правило, стремится получить доступ к ядерному оружию. Система санкционных ограничений эффективна до тех пор, пока применяется к государствам, чья экономика, благодаря их географическому положению, могла бы быть «закрыта». Подобную тактику, однако, почти невозможно применить к сетевым организациям, которые perseрасполагают открытой военной экономикой и регулярно обращаются к ресурсам «темной» стороны процессов глобализации. Полевое командование из-за своей территориальной мобильности и постоянной изменчивости редко влезает в корсет закрытой экономической системы, тем более когда оно, занимаясь наркоторговлей, вступает в стратегические коалиции с международной преступностью. Поэтому попытки экономически «перекрыть воздух» новым участникам военных действий, будь то полевые командиры или террористические сетевые организации, далеко не всегда эффективны.
Однако упомянутая уже не раз приватизация военных действий не ограничивается действиями полевых командиров или террористических организаций. Образования с подобной структурой есть и в некоторых странах богатого Севера, где в более или менее узаконенной форме существуют частные поставщики милитаристских услуг, так называемые Private Military Companies, без поддержки которых США вряд ли смогли бы вести войну в Ираке в 2003 году. Они управляются в соответствии с принципами частной экономики и базируются в США, Великобритании или Франции. Как правило, в их распоряжении есть сформированный кадровый штат, который по мере необходимости пополняется завербованными по всему миру сотрудниками. В этом случае мы имеем дело с группой бойцов, которые (по каким бы то ни было причинам) согласны вести солдатскую жизнь на содержании у политической силы, стоящей у них за спиной. Этот тип негосударственных войск наследует традиции военных кочевых отрядов. Экономическая поддержка государства, оставшегося в тени, сочетается здесь с определенной долей авантюризма и политической ангажированностью. И наконец, последний, третий тип: группы джихадистов, в основном из мусульманских стран; в зависимости от своего положения и перспектив они стекаются в определенные районы и, благодаря финансовой поддержке организаций сетевого типа, формируют там боевые части и ведут борьбу за утверждение своих политических проектов. Как правило, в условиях этих проектов особо высоко ценится готовность бойцов посвятить свою жизнь военным действиям. Подобным центром притяжения для международных отрядов джихадистов была чеченская война, равно как и война в Боснии и Герцеговине, до этого — в Афганистане, а позже проект «Исламского государства» (ИГ) по утверждению халифата на территории Сирии и Северного Ирака.
Три выделенных типа боевиков можно объединить термином «наемник»: после формирования национальных государств и введения всеобщей воинской повинности это явление превратилось в исторически устаревшее и уж точно маргинальное. В новой военной истории использование наемных солдат все менее популярно — это одна из основных характеристик новых войн. Богатые северные сообщества, в том числе под влиянием падающего коэффициента рождаемости, превратились в постгероические сообщества. Вступая в войну, которая не представляет прямой угрозы, они оказываются не в состоянии справиться с огромным количеством жертв; если говорить о демократически устроенных сообществах, то политическая линия, в которой масштабные потери оправдываются защитой отечества, будет отвергнута большинством граждан. Чтобы обойти эту проблему, в США обращаются к услугам частных военных компаний, а у британцев есть нанятые в Непале гуркхи. В каждом случае, однако, политическую ответственность за использование наемной силы может нести государство. Иначе дело обстоит с международными отрядами джихадистов, поэтому они представляют собой особенно трудный случай при определении границ или попытке ликвидации конфликтов, которые они ведут или в которых участвуют.
Важнейшая особенность новых войн — практикуемая в них стратегия асимметризации: уступающая в силе сторона не стремится достичь уровня развития технологий, на котором находится превосходящий ее противник, но концентрируется на том, чтобы превратить преимущества врага в недостатки таким образом, чтобы разница в материальном положении между оппонентами не проявилась или проявилась минимально.
Отправные точки в стратегии асимметризации—это использование пространства и времени. Пока сильные концентрируют свои войска в пространстве и стремятся как можно быстрее утвердить собственное превосходство, слабые, осознающие свои слабые стороны и не желающие становиться их жертвами, полагаются на полную противоположность: они расширяют пространство ведения войны, отказываются от скопления войск в одном месте, чтобы избежать атаки со стороны противника, превосходящего их в военно-технических и тактических аспектах. Им важно «продержаться», и тогда время уже будет работать на них. По большому счету это главный принцип ведения партизанской войны; однако, будучи «малой» войной, герильей, она была низведена в Европе, существующей по вестфальским договоренностям, до вспомогательного средства «большой» войны и не имела собственного стратегического значения. Все изменилось, когда после 1808 года, во время антинаполеоновских восстаний в Испании, народная и «большая» войны впервые объединились. Но из-за «реконструкции» Вестфальского порядка на Венском конгрессе этот способ ведения войны вплоть до XX века был оттеснен на задворки континента и по большей части рассматривался как свидетельство социально-экономической и политической отсталости. Таким образом, асимметричные методы ведения войны, возникшие из-за слабости одной из сторон, существовали всегда, но на протяжении долгого времени в политико-стратегическом сознании европейцев не воспринимались как возможный путь развития военной тактики. Это следующая особенность новых войн: асимметрия из маргинального явления превратилась в центральный элемент политики и военной стратегии.
Новые войны, можно сказать, совершили историческую «военную революцию»; среди важнейших новшеств — рекоммерциализация военного насилия, в ходе которой война (снова) становится отдельной формой жизни для ее командиров и перестает быть ограниченным во времени нарушением мира, стандарта и нормы. Полевые командиры и их окружение в буквальном смысле живут за счет войны. Вторая характеристика новых войн — их паразитарное финансирование: на месте территориально закрытой экономики, которая находится под политическим контролем властей, рассчитывающих на ее военный потенциал, возникает запутанная система каналов, связанных с мирной экономикой не задействованных в конфликте государств. Новые участники военных действий используют эти каналы, чтобы обеспечить себя деньгами, оружием и служащими. И наконец, третья особенность новых войн — стратегия асимметризации, посредством которой слабая (или, в случае симметричного конфликта, безнадежно поверженная) сторона способна противостоять сильной, пока не решится, как в последнее время это делает ИГ, на захват территорий и не начнет процесс утверждения собственного государственного режима. В этом случае она становится настолько уязвима, что легко может быть уничтожена противником.
В последние десятилетия международное сообщество, оказавшись на пороге объявления военной блокады, обращается к экономическим санкциям как способу насаждения своих норм и правил в государствах, где эти нормы и правила очевидным образом игнорируются. В большинстве случаев эти санкции следуют за преступлениями против прав человека или несоблюдением политики вооружения, в ходе которого кто-то пытается стать участником военных действий — как правило, стремится получить доступ к ядерному оружию. Система санкционных ограничений эффективна до тех пор, пока применяется к государствам, чья экономика, благодаря их географическому положению, могла бы быть «закрыта». Подобную тактику, однако, почти невозможно применить к сетевым организациям, которые perseрасполагают открытой военной экономикой и регулярно обращаются к ресурсам «темной» стороны процессов глобализации. Полевое командование из-за своей территориальной мобильности и постоянной изменчивости редко влезает в корсет закрытой экономической системы, тем более когда оно, занимаясь наркоторговлей, вступает в стратегические коалиции с международной преступностью. Поэтому попытки экономически «перекрыть воздух» новым участникам военных действий, будь то полевые командиры или террористические сетевые организации, далеко не всегда эффективны.
Однако упомянутая уже не раз приватизация военных действий не ограничивается действиями полевых командиров или террористических организаций. Образования с подобной структурой есть и в некоторых странах богатого Севера, где в более или менее узаконенной форме существуют частные поставщики милитаристских услуг, так называемые Private Military Companies, без поддержки которых США вряд ли смогли бы вести войну в Ираке в 2003 году. Они управляются в соответствии с принципами частной экономики и базируются в США, Великобритании или Франции. Как правило, в их распоряжении есть сформированный кадровый штат, который по мере необходимости пополняется завербованными по всему миру сотрудниками. В этом случае мы имеем дело с группой бойцов, которые (по каким бы то ни было причинам) согласны вести солдатскую жизнь на содержании у политической силы, стоящей у них за спиной. Этот тип негосударственных войск наследует традиции военных кочевых отрядов. Экономическая поддержка государства, оставшегося в тени, сочетается здесь с определенной долей авантюризма и политической ангажированностью. И наконец, последний, третий тип: группы джихадистов, в основном из мусульманских стран; в зависимости от своего положения и перспектив они стекаются в определенные районы и, благодаря финансовой поддержке организаций сетевого типа, формируют там боевые части и ведут борьбу за утверждение своих политических проектов. Как правило, в условиях этих проектов особо высоко ценится готовность бойцов посвятить свою жизнь военным действиям. Подобным центром притяжения для международных отрядов джихадистов была чеченская война, равно как и война в Боснии и Герцеговине, до этого — в Афганистане, а позже проект «Исламского государства» (ИГ) по утверждению халифата на территории Сирии и Северного Ирака.
Три выделенных типа боевиков можно объединить термином «наемник»: после формирования национальных государств и введения всеобщей воинской повинности это явление превратилось в исторически устаревшее и уж точно маргинальное. В новой военной истории использование наемных солдат все менее популярно — это одна из основных характеристик новых войн. Богатые северные сообщества, в том числе под влиянием падающего коэффициента рождаемости, превратились в постгероические сообщества. Вступая в войну, которая не представляет прямой угрозы, они оказываются не в состоянии справиться с огромным количеством жертв; если говорить о демократически устроенных сообществах, то политическая линия, в которой масштабные потери оправдываются защитой отечества, будет отвергнута большинством граждан. Чтобы обойти эту проблему, в США обращаются к услугам частных военных компаний, а у британцев есть нанятые в Непале гуркхи. В каждом случае, однако, политическую ответственность за использование наемной силы может нести государство. Иначе дело обстоит с международными отрядами джихадистов, поэтому они представляют собой особенно трудный случай при определении границ или попытке ликвидации конфликтов, которые они ведут или в которых участвуют.
Важнейшая особенность новых войн — практикуемая в них стратегия асимметризации: уступающая в силе сторона не стремится достичь уровня развития технологий, на котором находится превосходящий ее противник, но концентрируется на том, чтобы превратить преимущества врага в недостатки таким образом, чтобы разница в материальном положении между оппонентами не проявилась или проявилась минимально.
Отправные точки в стратегии асимметризации—это использование пространства и времени. Пока сильные концентрируют свои войска в пространстве и стремятся как можно быстрее утвердить собственное превосходство, слабые, осознающие свои слабые стороны и не желающие становиться их жертвами, полагаются на полную противоположность: они расширяют пространство ведения войны, отказываются от скопления войск в одном месте, чтобы избежать атаки со стороны противника, превосходящего их в военно-технических и тактических аспектах. Им важно «продержаться», и тогда время уже будет работать на них. По большому счету это главный принцип ведения партизанской войны; однако, будучи «малой» войной, герильей, она была низведена в Европе, существующей по вестфальским договоренностям, до вспомогательного средства «большой» войны и не имела собственного стратегического значения. Все изменилось, когда после 1808 года, во время антинаполеоновских восстаний в Испании, народная и «большая» войны впервые объединились. Но из-за «реконструкции» Вестфальского порядка на Венском конгрессе этот способ ведения войны вплоть до XX века был оттеснен на задворки континента и по большей части рассматривался как свидетельство социально-экономической и политической отсталости. Таким образом, асимметричные методы ведения войны, возникшие из-за слабости одной из сторон, существовали всегда, но на протяжении долгого времени в политико-стратегическом сознании европейцев не воспринимались как возможный путь развития военной тактики. Это следующая особенность новых войн: асимметрия из маргинального явления превратилась в центральный элемент политики и военной стратегии.
Новые войны, можно сказать, совершили историческую «военную революцию»; среди важнейших новшеств — рекоммерциализация военного насилия, в ходе которой война (снова) становится отдельной формой жизни для ее командиров и перестает быть ограниченным во времени нарушением мира, стандарта и нормы. Полевые командиры и их окружение в буквальном смысле живут за счет войны. Вторая характеристика новых войн — их паразитарное финансирование: на месте территориально закрытой экономики, которая находится под политическим контролем властей, рассчитывающих на ее военный потенциал, возникает запутанная система каналов, связанных с мирной экономикой не задействованных в конфликте государств. Новые участники военных действий используют эти каналы, чтобы обеспечить себя деньгами, оружием и служащими. И наконец, третья особенность новых войн — стратегия асимметризации, посредством которой слабая (или, в случае симметричного конфликта, безнадежно поверженная) сторона способна противостоять сильной, пока не решится, как в последнее время это делает ИГ, на захват территорий и не начнет процесс утверждения собственного государственного режима. В этом случае она становится настолько уязвима, что легко может быть уничтожена противником.
Войны Вестфальской системы
Термин «Вестфальский порядок», или «Вестфальская система», впервые возник в американской политологии, точнее, в теории политического реализма международной политики, которая не пользовалась особым успехом среди немецких историографов, более заинтересованных в описании и анализе отдельных конфигураций, чем в создании типологий и моделировании. Поэтому критики термина в своей аргументации обращаются к противоречиям и исключениям в системе, определяемой как «Вестфальская». Сторонники термина, в свою очередь, говорят о структурирующем эффекте принятой модели и обращают внимание на то, что противоречия и исключения проявляются и могут быть изучены лишь благодаря существованию самой модели. По большому счету эти дебаты о научных и методологических аспектах оказываются куда интереснее, чем применение самой системы для изучения трехсот лет европейской истории, ведь в итоге они были и остаются посвящены вопросу о том, возможно ли вообще применять методы историко-аналитической типизации или они влекут за собой искажающие упрощения, жертвой которых становятся частные особенности процессов исторического развития. В самом широком смысле методы гуманитарных наук используются здесь против методов социологии. Однако это расхождение не будет интересовать нас в дальнейшем. Когда мы говорим о Вестфальской системе, наши аргументы в большей степени относятся к области социологии.
Теоретическая модель Вестфальской системы международных отношений состоит из трех частей: это мирные договоры Мюнстера и Оснабрюка, положившие конец Тридцатилетней войне, труд Гуго Гроция De Jure Belli ас Pads libri tres и, наконец, опыт государственной политики начиная с середины XVII века. Взаимодействие этих трех элементов привело к возникновению политического порядка, определившего соотношение сил вплоть до XX века, а также ввело правовую предсказуемость. В этом смысле Вестфальская система стала важной составляющей того, что Макс Вебер называл «рационализацией мира», — процесса развития, инициированного Европой и ограниченного ее территорией, в ходе которого произвол ограничивается решениями правовых структур, а доминирующими оказываются те импульсы, которые идут на пользу самым рациональным политическим деятелям. В этом смысле Вестфальская система стоит в одном ряду с системой законности, бюрократией и денежной экономикой, которые Вебер называл основными элементами процесса рационализации. Политика поддавалась исчислениям, потому что придерживалась правил.
Если мы рассмотрим мирные договоры Мюнстера и Оснабрюка не только как документы, положившие конец Тридцатилетней войне, но и как точку отсчета для возникновения нового политического порядка, то увидим, что акцент переносится с иерархии на равенство рангов, которое стало следствием введения принципов суверенности. Таким образом, в договорах был подведен итог затянувшейся опустошительной войне, развернувшейся на немецкой территории, но ставшей по большому счету общеевропейской. Политический порядок, в котором власть была разделена между императором и папой, с принятием Мюнстерского соглашения безвозвратно ушел в прошлое, а на его месте возникла система равноправных государств, в которой каждый носитель верховной власти принимал независимые решения, не требующие одобрения или подтверждения со стороны вышестоящего института. Непреложность суверенных решений была решающим пунктом для новой политической системы Европы. Но когда упразднен высший уровень принятия решений, к авторитету которого можно было обратиться для урегулирования конфликта и к которому прислушивались враждующие стороны, то как конфликт может быть разрешен? В конце концов, лишь с помощью войны, то есть в соответствии с резолюцией вооружения.
В документах Вестфальского мира об этом, конечно же, ничего не сказано, но таково их неизбежное следствие: из-за запрета на кооперацию между Венской и Мадридской ветвями дома Габсбургов, принятого в Мюнстере, в Европе больше не существовало властной инстанции, способной не только выносить судебные постановления, но хотя бы выдвигать предложения по решению конфликтных вопросов. Кроме того, согласно положениям о конфессиональных порядках, принятым в Оснабрюке одновременно с мюнстерскими, папа римский перестал восприниматься всеми без исключения европейскими державами как обладающая непрямой властью правовая инстанция. Главной целью иерархического устройства средневековой Европы был устойчивый мир, а любой спорный вопрос мог быть решен без использования военного насилия — так выглядит теоретически реконструированная модель, которая, однако, не вполне соответствовала действительности. В Вестфальской системе, напротив, мир и война были по большому счету равноправными агрегатными состояниями политики, и суверен мог по собственной воле выбирать одно из них. Так как в случае нападения он больше не имел возможности обратиться к вышестоящим инстанциям за помощью, война становилась для него не политической возможностью, которую возможно выбрать или избежать, но политической необходимостью: теперь он был вынужден заботиться о навыках ведения боя ради сохранения собственных прав. Историк Йоханнес Буркхардт определил эти взаимосвязи как «Беспокойство раннего Нового времени». В то же время договоры Мюнстера и Оснабрюка способствовали тому, чтобы войны велись строго в пределах безусловных и универсальных ценностных систем, в отличие от конфессиональных войн начиная с XVI века и до завершения Тридцатилетней войны. Теперь ведение войны подчинялось исключительно рациональным интересам государственных властей. Основным ориентиром стала теория национальных интересов во всем своем разнообразии.
Однако если война была таким же легитимным агрегатным состоянием политики, как и мир, то ее можно было не воспринимать как чрезвычайное положение, утрату порядка, который необходимо восстановить как можно скорее. Следовало подчинить войну конкретным правилам, которые упорядочили бы сам процесс ее ведения и юридически урегулировали процесс перехода между войной и миром. Этот свод правил уже существовал в виде теоретического проекта за четверть века до подписания договора в 1648 году. Речь идет о работе голландца Гуго Гроция, уже в названии которой обозначено равноправие войны и мира: Три книги о праве войны и мира.Уже в самом начале трактата Гроций утверждает тезис о нормологическом равноправии обоих политических агрегатных состояний:
Теоретическая модель Вестфальской системы международных отношений состоит из трех частей: это мирные договоры Мюнстера и Оснабрюка, положившие конец Тридцатилетней войне, труд Гуго Гроция De Jure Belli ас Pads libri tres и, наконец, опыт государственной политики начиная с середины XVII века. Взаимодействие этих трех элементов привело к возникновению политического порядка, определившего соотношение сил вплоть до XX века, а также ввело правовую предсказуемость. В этом смысле Вестфальская система стала важной составляющей того, что Макс Вебер называл «рационализацией мира», — процесса развития, инициированного Европой и ограниченного ее территорией, в ходе которого произвол ограничивается решениями правовых структур, а доминирующими оказываются те импульсы, которые идут на пользу самым рациональным политическим деятелям. В этом смысле Вестфальская система стоит в одном ряду с системой законности, бюрократией и денежной экономикой, которые Вебер называл основными элементами процесса рационализации. Политика поддавалась исчислениям, потому что придерживалась правил.
Если мы рассмотрим мирные договоры Мюнстера и Оснабрюка не только как документы, положившие конец Тридцатилетней войне, но и как точку отсчета для возникновения нового политического порядка, то увидим, что акцент переносится с иерархии на равенство рангов, которое стало следствием введения принципов суверенности. Таким образом, в договорах был подведен итог затянувшейся опустошительной войне, развернувшейся на немецкой территории, но ставшей по большому счету общеевропейской. Политический порядок, в котором власть была разделена между императором и папой, с принятием Мюнстерского соглашения безвозвратно ушел в прошлое, а на его месте возникла система равноправных государств, в которой каждый носитель верховной власти принимал независимые решения, не требующие одобрения или подтверждения со стороны вышестоящего института. Непреложность суверенных решений была решающим пунктом для новой политической системы Европы. Но когда упразднен высший уровень принятия решений, к авторитету которого можно было обратиться для урегулирования конфликта и к которому прислушивались враждующие стороны, то как конфликт может быть разрешен? В конце концов, лишь с помощью войны, то есть в соответствии с резолюцией вооружения.
В документах Вестфальского мира об этом, конечно же, ничего не сказано, но таково их неизбежное следствие: из-за запрета на кооперацию между Венской и Мадридской ветвями дома Габсбургов, принятого в Мюнстере, в Европе больше не существовало властной инстанции, способной не только выносить судебные постановления, но хотя бы выдвигать предложения по решению конфликтных вопросов. Кроме того, согласно положениям о конфессиональных порядках, принятым в Оснабрюке одновременно с мюнстерскими, папа римский перестал восприниматься всеми без исключения европейскими державами как обладающая непрямой властью правовая инстанция. Главной целью иерархического устройства средневековой Европы был устойчивый мир, а любой спорный вопрос мог быть решен без использования военного насилия — так выглядит теоретически реконструированная модель, которая, однако, не вполне соответствовала действительности. В Вестфальской системе, напротив, мир и война были по большому счету равноправными агрегатными состояниями политики, и суверен мог по собственной воле выбирать одно из них. Так как в случае нападения он больше не имел возможности обратиться к вышестоящим инстанциям за помощью, война становилась для него не политической возможностью, которую возможно выбрать или избежать, но политической необходимостью: теперь он был вынужден заботиться о навыках ведения боя ради сохранения собственных прав. Историк Йоханнес Буркхардт определил эти взаимосвязи как «Беспокойство раннего Нового времени». В то же время договоры Мюнстера и Оснабрюка способствовали тому, чтобы войны велись строго в пределах безусловных и универсальных ценностных систем, в отличие от конфессиональных войн начиная с XVI века и до завершения Тридцатилетней войны. Теперь ведение войны подчинялось исключительно рациональным интересам государственных властей. Основным ориентиром стала теория национальных интересов во всем своем разнообразии.
Однако если война была таким же легитимным агрегатным состоянием политики, как и мир, то ее можно было не воспринимать как чрезвычайное положение, утрату порядка, который необходимо восстановить как можно скорее. Следовало подчинить войну конкретным правилам, которые упорядочили бы сам процесс ее ведения и юридически урегулировали процесс перехода между войной и миром. Этот свод правил уже существовал в виде теоретического проекта за четверть века до подписания договора в 1648 году. Речь идет о работе голландца Гуго Гроция, уже в названии которой обозначено равноправие войны и мира: Три книги о праве войны и мира.Уже в самом начале трактата Гроций утверждает тезис о нормологическом равноправии обоих политических агрегатных состояний:
“
«Все взаимные споры лиц, не связанных воедино общим внутригосударственным правом, относятся к состоянию войны или мира»
Без сомнения, Гроций осознавал подчиненность войны миру, но для него эта иерархия имела не нормативный, а политико-стратегический характер: «войны ведутся ради заключения мира». Если мир — это цель войны, а война становится средством для достижения мира, то политике стоит всерьез позаботиться о том, какие средства оправдывают эту цель и стоит ли вступать в войну, исход которой неизвестен. В определенном смысле война переходит из области норм, ориентированной на мир, в область рационального расчета, где сравниваются расходы и прибыль. Гроций не признавал единоличного права суверенов на принятие решений о войне и мире, поэтому он обращал внимание на несправедливые и сомнительные причины возникновения войн: даже при наличии справедливого повода нельзя объявлять их слишком поспешно. Однако окончательное решение о том, началась ли война из добрых или злых побуждений, выносит вовсе не участвующая в происходящем инстанция, которую Гроций не знал и вводить которую не предлагал; это суждение задним числом выносят юристы, философы и историки, а представителям власти приходится учитывать его при принятии решений в будущем. Изобретенная Гроцием народно-правовая система не предполагала наблюдателей, она основывалась на взаимодействии рационального преследования интересов и внутреннего стремления суверенов к норме. В ней изложены как дескриптивные, так и прескриптивные основы Вестфальского мира.
И наконец, третий фактор, наряду с договорами Мюнстера и Оснабрюка и трудом Гроция необходимый для создания большой международной системы, результатом которой мог бы стать Вестфальский порядок, — это опыт государств, в котором зафиксированные на бумаге принципы превратились в структуру политического порядка во всей Европе. Две главные задачи этой структуры: если ведутся войны, они должны быть ориентированы на интересы государства; вопросы о нематериальных ценностях и убеждениях, в особенности религиозно-конфессионального характера, недопустимы — подобные конфликты должны решаться не в режиме принятия военных решений. Решения о мире и войне выносятся в соответствии с национальными интересами, а не религией. Согласно второму критерию, наряду с государственными войнами, которые строго регулируются, гражданские войны должны быть полностью упразднены, а политическая система — организована таким образом, чтобы ни в коем случае не допустить возникновения внутригосударственных конфликтов. Для этого Томас Гоббс предлагал совместить конфессиональную терпимость (разумеется, исключительно в пределах христианских вероисповеданий), политическую сдержанность руководящих сил при вмешательстве в личные дела граждан и обеспечение безоговорочной физической безопасности населения, при этом государственная власть должна безраздельно принадлежать одному руководящему лицу.
Вестфальская система при всех изменениях и модификациях, через которые она прошла со временем, основывалась на распределении власти между пятью державами, так называемой пентархии. Ее члены, обладающие региональным превосходством, выдвигали к более мелким государствам определенные требования, касающиеся внешней или союзной политики, а также, в зависимости от собственных интересов, сотрудничали или конкурировали между собой. При этом между властными державами не возникало пропорции 4 : 1, но преобладало соотношение 3 : 2, вероятнее всего установившееся, когда одной из них удалось сохранить гибкость в отношениях с союзниками и стать своего рода стрелкой на весах и, как следствие, восстанавливать в Европе равновесие сил, как только оно нарушалось. Франция со времен Ришелье стремилась к роли «блюстителя порядка», в то время как Великобритания фактически заняла место стрелки весов. Следствием этого стали напряженные отношения между французами и британцами, определявшие европейскую политику почти до самого начала Первой мировой войны.
И наконец, третий фактор, наряду с договорами Мюнстера и Оснабрюка и трудом Гроция необходимый для создания большой международной системы, результатом которой мог бы стать Вестфальский порядок, — это опыт государств, в котором зафиксированные на бумаге принципы превратились в структуру политического порядка во всей Европе. Две главные задачи этой структуры: если ведутся войны, они должны быть ориентированы на интересы государства; вопросы о нематериальных ценностях и убеждениях, в особенности религиозно-конфессионального характера, недопустимы — подобные конфликты должны решаться не в режиме принятия военных решений. Решения о мире и войне выносятся в соответствии с национальными интересами, а не религией. Согласно второму критерию, наряду с государственными войнами, которые строго регулируются, гражданские войны должны быть полностью упразднены, а политическая система — организована таким образом, чтобы ни в коем случае не допустить возникновения внутригосударственных конфликтов. Для этого Томас Гоббс предлагал совместить конфессиональную терпимость (разумеется, исключительно в пределах христианских вероисповеданий), политическую сдержанность руководящих сил при вмешательстве в личные дела граждан и обеспечение безоговорочной физической безопасности населения, при этом государственная власть должна безраздельно принадлежать одному руководящему лицу.
Вестфальская система при всех изменениях и модификациях, через которые она прошла со временем, основывалась на распределении власти между пятью державами, так называемой пентархии. Ее члены, обладающие региональным превосходством, выдвигали к более мелким государствам определенные требования, касающиеся внешней или союзной политики, а также, в зависимости от собственных интересов, сотрудничали или конкурировали между собой. При этом между властными державами не возникало пропорции 4 : 1, но преобладало соотношение 3 : 2, вероятнее всего установившееся, когда одной из них удалось сохранить гибкость в отношениях с союзниками и стать своего рода стрелкой на весах и, как следствие, восстанавливать в Европе равновесие сил, как только оно нарушалось. Франция со времен Ришелье стремилась к роли «блюстителя порядка», в то время как Великобритания фактически заняла место стрелки весов. Следствием этого стали напряженные отношения между французами и британцами, определявшие европейскую политику почти до самого начала Первой мировой войны.
Вестфальский порядок как бинарная система
«Порядок без надзирателей» — без участия инстанции, которая в сложных и спорных случаях добивается ясности, создает нормы и правила и применяет их на практике, — может исправно работать только в том случае, если правила сформулированы однозначно и ясно. В Вестфальской системе царит принцип бинарности: либо-либо, два противоположных друг другу варианта, третьего пути не существует. Формула tertium non datur (третьего не дано) — организующий принцип этой системы, который вынуждал всех действующих внутри нее к принятию точных решений: никакой двусмысленности и гибридности, никакого объединения противопоставленных друг другу альтернатив. Только таким образом должна функционировать система, в которой не существует инстанции непрерывного наблюдения, позволяющей себе вмешиваться в ход дела при нарушении правил. Это недостижимо в случае «порядка надзирателей», то есть в империалистических системах, где централизованная власть контролирует систему, исправляет ее и выступает гарантом порядка. Поэтому империалистический режим способен стремительно и гибко реагировать на изменения общих (или внешних) условий. А системы, которые стремятся к утверждению собственных сводов правил и норм, в своих реакциях медлительны и неповоротливы.
На примере оппозиций войны и мира, государственной войны и гражданской, «малой» войны и «большой», а также участвующих и не участвующих в военных действиях (комбатантов и некомбатантов) мы рассмотрим, как оппозиции — речь всегда идет о симметричных оппозициях — создавали основу Вестфальской системы. Симметричные оппозиции отличаются от асимметричных тем, что в них нет менее значимого элемента, а их компоненты находятся в условиях паритета.
В Вестфальской системе состояния войны и мира отделены друг от друга как два возможных агрегатных состояния политики, и переход от одного состояния к другому должен быть формализован юридически — в виде объявления войны или заключения мирного договора. Тридцатилетняя война являла противоположную модель, не подразумевающую «объявлений», так как император воспринимал военные действия своих противников на территории империи как восстание или мятеж, а не как военную операцию и планировал положить конец насильственным военным действиям не в форме заключения мирного договора, но в форме просьбы о помиловании или наказания. Правители-протестанты и протестантские сословия, сражавшиеся против императора и связанной с ним католической коалиции, воспринимали это как акт легитимного сопротивления несправедливой власти. Внешние силы, также принимавшие участие в войне, — Дания и Испания — выступали не в роли внешних захватчиков, но вели военные действия на пограничных территориях, находившихся во власти кайзера. В результате они также оказывались задействованы в войне, хотя и не объявляли ее официально. Таким образом, эта война скорее была противопоставлением абсолютистских претензий на господство с одной стороны и права на сопротивление с другой, но вряд ли ее причины были в дифференциации войны и мира. Это привело к тому, что стороны с трудом могли оповещать друг друга о перемирии или вести мирные переговоры, ведь в этом случае они рисковали поступиться своими правовыми взглядами, а вместе с тем могли и делегитимизировать собственные действия. В Вестфальской системе разрешение подобных конфликтов вменяется в обязанности суверену и потому может быть формализовано.
С утверждением о том, что право на объявление войны (jus ad bellum) принадлежит только носителю верховной власти, связана вторая системная модель, также ориентированная на создание бинарности: четкое разделение межгосударственной и гражданской войн, противопоставление внутреннего и внешнего, где не может быть ни «рядом», ни «возле». Межгосударственная война при этом шаг за шагом все больше попадает под правовую юрисдикцию (jus in bello), в том числе благодаря разделению участвующих и не участвующих в боевых действиях, а также разработке правил, по которым комбатант может получить статус некомбатанта. Принятие решений, прежде предоставленное произволу («милости») победивших военачальников и офицеров, например уничтожение либо разоружение побежденного врага или эксплуатация вражеских сил ради собственных нужд, теперь стало частью воєнно-правовой системы, которой должны были подчиняться военачальники, офицеры и солдаты. Итогом процессов урегулирования и юридификации войны, которые, естественно, не были одобрены сразу, но все время прерывались периодами застоя, стали гаагские и женевские конвенции. Первые содержали свод правил ведения войны для участников боевых действий, вторые обеспечивали защиту тех, кто в них не участвует.
В отличие от межгосударственных войн, которые воспринимались как урегулированный способ решения трудных международных вопросов, внутригосударственные (гражданские) войны с тех пор стали считаться недопустимыми — не в последнюю очередь потому, что их почти невозможно урегулировать: конфликтующие политические объединения не подчиняются принятым законам. Следствием гражданских войн всегда становится распространение жестокости, которая встает на пути у любого консенсуса или компромисса, необходимого для заключения мира. Соответственно, можно предположить, что jus ad helium принадлежит лишь тому, кто в состоянии придерживаться принципа jus in hello, а на это способны лишь государства, но не гражданские военные партии. Благодаря разделению гражданской и межгосударственной войн, направленному как раз на разрушение взаимосвязей, возникших в условиях Тридцатилетней войны, война была вытеснена за пределы государства и стала, по крайней мере в правовом смысле, делом международного сообщества. На этом основывалось разделение армии и полиции, равно как и противопоставление военной и криминальной парадигм — двух основополагающих форм «обработки» любых сил, направленных против существующей государственной власти.
Следующая оппозиция, о которой нужно упомянуть, хотя ее бинарность и, следовательно, системообразующая однозначность всегда вызывали затруднения, — это «большая» и «малая» (герилья) войны. В сущности, эта оппозиция основывается на различном использовании пространства и времени: «большая» война ориентируется на скопление сил в пространстве и времени, своей целью полагает одно решающее сражение, исход которого должен определить содержание последующего мирного договора. «Малая» война, в свою очередь, направлена на дестабилизацию логистики противника, при этом все время расширяет границы времени и пространства. Вести «малую» войну можно и с небольшими войсками, которые значительно подвижнее, появляются и снова исчезают, так как не привязаны к сложной и тяжеловесной транспортной системе, но обеспечивают себя «тем, что есть», то есть грабежами и мародерством. Герилья, таким образом, форма ведения войны, которая все время ставит под сомнение существующий уровень военно-правового регулирования. Поэтому Вестфальская система пытается ограничить «малые» войны и оставляет им лишь функцию «поддержки» больших войн. Но герилья, стоит ей слиться с народной войной, непрерывно пытается разорвать свою связь с «большой» войной и нарушает связанные с ней запреты, из-за чего другая бинарная оппозиция Вестфальской системы -противопоставление комбатантов и некомбатантов — постепенно выходит из употребления. Так как политики, как правило, были осведомлены об этой опасности и осознавали близость герильи к гражданской войне, они стремились вытеснить малые и народно-освободительные войны как можно дальше, на самую периферию Вестфальской системы, подальше от ее центра. Эта инициатива была весьма успешной вплоть до середины Второй мировой войны: Испания и в первую очередь Балканы оставались регионами малых войн.
Вестфальская система была предназначена для того, чтобы превратить войну в политический инструмент и ограничить этим ее функции. В этом смысле процесс легитимизации государственной войны и криминализация всех остальных форм политически мотивированного насилия — две стороны одной медали. Все зависело от того, способно ли государство монополизировать не только законность войны, но и фактические навыки ее ведения. Кроме того, из-за своей «материальности», то есть единства государственных территорий и населения, в случае нарушения установленного по рядка ведения войны страна могла быть подвергнута санкциям со стороны мирового сообщества. Поэтому государственное руководство отказывалось от использования нестандартных методов ведения военных действий, даже если они оказывались привлекательными в определенных условиях, чтобы избежать куда более серьезных последствий в виде экономических санкций. В то же время государства принадлежат к незначительному числу политических союзов, которые способны принимать решения, действуя коллективно, и безнаказанно применять их против собственных представителей. Договоренности и результаты переговоров до сих пор в значительной степени приравнивались к обязательствам, что положительно сказывалось на стабильности Вестфальской системы. Естественно, все это зависело от того, что государства были (и остаются) военными монополиями. В тех странах, где ситуация сложилась иначе, не удается применить Вестфальскую систему— со временем она разрушается. И процесс постепенного распада выражается в том, как базовые положения бинарных оппозиций теряют свою значимость.
На примере оппозиций войны и мира, государственной войны и гражданской, «малой» войны и «большой», а также участвующих и не участвующих в военных действиях (комбатантов и некомбатантов) мы рассмотрим, как оппозиции — речь всегда идет о симметричных оппозициях — создавали основу Вестфальской системы. Симметричные оппозиции отличаются от асимметричных тем, что в них нет менее значимого элемента, а их компоненты находятся в условиях паритета.
В Вестфальской системе состояния войны и мира отделены друг от друга как два возможных агрегатных состояния политики, и переход от одного состояния к другому должен быть формализован юридически — в виде объявления войны или заключения мирного договора. Тридцатилетняя война являла противоположную модель, не подразумевающую «объявлений», так как император воспринимал военные действия своих противников на территории империи как восстание или мятеж, а не как военную операцию и планировал положить конец насильственным военным действиям не в форме заключения мирного договора, но в форме просьбы о помиловании или наказания. Правители-протестанты и протестантские сословия, сражавшиеся против императора и связанной с ним католической коалиции, воспринимали это как акт легитимного сопротивления несправедливой власти. Внешние силы, также принимавшие участие в войне, — Дания и Испания — выступали не в роли внешних захватчиков, но вели военные действия на пограничных территориях, находившихся во власти кайзера. В результате они также оказывались задействованы в войне, хотя и не объявляли ее официально. Таким образом, эта война скорее была противопоставлением абсолютистских претензий на господство с одной стороны и права на сопротивление с другой, но вряд ли ее причины были в дифференциации войны и мира. Это привело к тому, что стороны с трудом могли оповещать друг друга о перемирии или вести мирные переговоры, ведь в этом случае они рисковали поступиться своими правовыми взглядами, а вместе с тем могли и делегитимизировать собственные действия. В Вестфальской системе разрешение подобных конфликтов вменяется в обязанности суверену и потому может быть формализовано.
С утверждением о том, что право на объявление войны (jus ad bellum) принадлежит только носителю верховной власти, связана вторая системная модель, также ориентированная на создание бинарности: четкое разделение межгосударственной и гражданской войн, противопоставление внутреннего и внешнего, где не может быть ни «рядом», ни «возле». Межгосударственная война при этом шаг за шагом все больше попадает под правовую юрисдикцию (jus in bello), в том числе благодаря разделению участвующих и не участвующих в боевых действиях, а также разработке правил, по которым комбатант может получить статус некомбатанта. Принятие решений, прежде предоставленное произволу («милости») победивших военачальников и офицеров, например уничтожение либо разоружение побежденного врага или эксплуатация вражеских сил ради собственных нужд, теперь стало частью воєнно-правовой системы, которой должны были подчиняться военачальники, офицеры и солдаты. Итогом процессов урегулирования и юридификации войны, которые, естественно, не были одобрены сразу, но все время прерывались периодами застоя, стали гаагские и женевские конвенции. Первые содержали свод правил ведения войны для участников боевых действий, вторые обеспечивали защиту тех, кто в них не участвует.
В отличие от межгосударственных войн, которые воспринимались как урегулированный способ решения трудных международных вопросов, внутригосударственные (гражданские) войны с тех пор стали считаться недопустимыми — не в последнюю очередь потому, что их почти невозможно урегулировать: конфликтующие политические объединения не подчиняются принятым законам. Следствием гражданских войн всегда становится распространение жестокости, которая встает на пути у любого консенсуса или компромисса, необходимого для заключения мира. Соответственно, можно предположить, что jus ad helium принадлежит лишь тому, кто в состоянии придерживаться принципа jus in hello, а на это способны лишь государства, но не гражданские военные партии. Благодаря разделению гражданской и межгосударственной войн, направленному как раз на разрушение взаимосвязей, возникших в условиях Тридцатилетней войны, война была вытеснена за пределы государства и стала, по крайней мере в правовом смысле, делом международного сообщества. На этом основывалось разделение армии и полиции, равно как и противопоставление военной и криминальной парадигм — двух основополагающих форм «обработки» любых сил, направленных против существующей государственной власти.
Следующая оппозиция, о которой нужно упомянуть, хотя ее бинарность и, следовательно, системообразующая однозначность всегда вызывали затруднения, — это «большая» и «малая» (герилья) войны. В сущности, эта оппозиция основывается на различном использовании пространства и времени: «большая» война ориентируется на скопление сил в пространстве и времени, своей целью полагает одно решающее сражение, исход которого должен определить содержание последующего мирного договора. «Малая» война, в свою очередь, направлена на дестабилизацию логистики противника, при этом все время расширяет границы времени и пространства. Вести «малую» войну можно и с небольшими войсками, которые значительно подвижнее, появляются и снова исчезают, так как не привязаны к сложной и тяжеловесной транспортной системе, но обеспечивают себя «тем, что есть», то есть грабежами и мародерством. Герилья, таким образом, форма ведения войны, которая все время ставит под сомнение существующий уровень военно-правового регулирования. Поэтому Вестфальская система пытается ограничить «малые» войны и оставляет им лишь функцию «поддержки» больших войн. Но герилья, стоит ей слиться с народной войной, непрерывно пытается разорвать свою связь с «большой» войной и нарушает связанные с ней запреты, из-за чего другая бинарная оппозиция Вестфальской системы -противопоставление комбатантов и некомбатантов — постепенно выходит из употребления. Так как политики, как правило, были осведомлены об этой опасности и осознавали близость герильи к гражданской войне, они стремились вытеснить малые и народно-освободительные войны как можно дальше, на самую периферию Вестфальской системы, подальше от ее центра. Эта инициатива была весьма успешной вплоть до середины Второй мировой войны: Испания и в первую очередь Балканы оставались регионами малых войн.
Вестфальская система была предназначена для того, чтобы превратить войну в политический инструмент и ограничить этим ее функции. В этом смысле процесс легитимизации государственной войны и криминализация всех остальных форм политически мотивированного насилия — две стороны одной медали. Все зависело от того, способно ли государство монополизировать не только законность войны, но и фактические навыки ее ведения. Кроме того, из-за своей «материальности», то есть единства государственных территорий и населения, в случае нарушения установленного по рядка ведения войны страна могла быть подвергнута санкциям со стороны мирового сообщества. Поэтому государственное руководство отказывалось от использования нестандартных методов ведения военных действий, даже если они оказывались привлекательными в определенных условиях, чтобы избежать куда более серьезных последствий в виде экономических санкций. В то же время государства принадлежат к незначительному числу политических союзов, которые способны принимать решения, действуя коллективно, и безнаказанно применять их против собственных представителей. Договоренности и результаты переговоров до сих пор в значительной степени приравнивались к обязательствам, что положительно сказывалось на стабильности Вестфальской системы. Естественно, все это зависело от того, что государства были (и остаются) военными монополиями. В тех странах, где ситуация сложилась иначе, не удается применить Вестфальскую систему— со временем она разрушается. И процесс постепенного распада выражается в том, как базовые положения бинарных оппозиций теряют свою значимость.
Войны типа Тридцатилетней войны
Приведенные выше размышления и наблюдения позволяют сделать вывод о том, что Тридцатилетняя война, разразившаяся в Центральной Европе в первой половине XVII века, была не единственным конфликтом подобного рода, но может быть рассмотрена как пример целого типа «Тридцатилетняя война». От войн вестфальского типа его отличает то, что он не вписывается ни в одну регуляционную систему. В нем объединяются, связываются или пересекаются типы войн, разделенные в рамках Вестфальского порядка. Такая война не обязательно должна длиться тридцать лет, однако в каждом случае речь идет о продолжительном военном конфликте, который обходит или разрушает все системы регуляции, в которых он мог развернуться. В войнах этого типа всегда проявляется особая жестокость, в особенности по отношению к мирному населению, не-участникам боевых действий. И продолжительность, и ярко выраженная жестокость связаны с размыванием границ между войной и миром, межгосударственной и гражданской, «большой» и «малой» войнами.
Тип этот представлен в истории Пелопонесской войной конца V века до н. э., описанной историком Фукидидом, а также развернувшейся на территории Франции Столетней войной. В Новое время к этому типу относятся войны на Великих Африканских озерах в Тропической Африке, в первую очередь в Руанде, Бурунди и Восточном Конго, а также войны на Ближнем Востоке, в Сирии и Йемене, в Ираке и на территории Ливийской пустыни. В них прослеживается опасная тенденция к объединению отдельных военных конфликтов в одну большую войну. Эти войны ранее (и до сих пор) постоянно прерывались мирными договорами и перемириями. Из-за их продолжительности и диффузности современники и историки описывают их как одну непрерывную войну. В случае Пелопонесской войны это был Фукидид, которого принято считать родоначальником политической историографии и чей труд под общим заголовком Xyngraphie сохранился до наших дней. Так же воспринимали Столетнюю войну уже ее современники в конце XIV века, а ее описание в работе американского историка Барбары Тухман в 1970-е годы стало одним из самых важных и влиятельных трудов по историографии в XX веке. В случае с Тридцатилетней войной 1618-1648 годов привычное терминологическое обозначение начали использовать сразу после ее окончания. Оно приобрело популярность благодаря «Истории Тридцатилетней войны» Фридриха Шиллера и впоследствии стало устойчивым определением. По завершении войн, относящихся к типу Тридцатилетней, как наблюдатели, так и аналитики приходят к осознанию их исключительности, несопоставимости ни с одной из войн, свидетелями или участниками которых им доводилось быть. Вероятно, этот ретроспективный опыт связан с разрушительными для мирового порядка последствиями. Однако подобные последствия не запланированы и не предусмотрены теми, кто ведет эту войну, — они проявляются лишь по прошествии определенного времени.
Апокалиптические масштабы войн этого типа наблюдаются уже в их динамике. Четыре всадника из Откровения Иоанна Богослова помогают им уничтожать целые народы: эпизоотии и эпидемии обрушиваются на измученных голодом людей, которые, смешавшись с потоками беженцев, ищут спасения за стенами укрепленных городов, где погибают от эпидемий, чаще всего называемых чумой. «Апокалиптические масштабы» войн этого типа вместе с тем обстоятельством, что от насилия погибает не только вооруженный противник, но и прежде всего—в результате осадной или опустошительной войны — мирное население, являются причиной драматических демографических спадов в целых регионах. Для того чтобы справиться с их разрушительными последствиями, может понадобиться не одно десятилетие.
Тип этот представлен в истории Пелопонесской войной конца V века до н. э., описанной историком Фукидидом, а также развернувшейся на территории Франции Столетней войной. В Новое время к этому типу относятся войны на Великих Африканских озерах в Тропической Африке, в первую очередь в Руанде, Бурунди и Восточном Конго, а также войны на Ближнем Востоке, в Сирии и Йемене, в Ираке и на территории Ливийской пустыни. В них прослеживается опасная тенденция к объединению отдельных военных конфликтов в одну большую войну. Эти войны ранее (и до сих пор) постоянно прерывались мирными договорами и перемириями. Из-за их продолжительности и диффузности современники и историки описывают их как одну непрерывную войну. В случае Пелопонесской войны это был Фукидид, которого принято считать родоначальником политической историографии и чей труд под общим заголовком Xyngraphie сохранился до наших дней. Так же воспринимали Столетнюю войну уже ее современники в конце XIV века, а ее описание в работе американского историка Барбары Тухман в 1970-е годы стало одним из самых важных и влиятельных трудов по историографии в XX веке. В случае с Тридцатилетней войной 1618-1648 годов привычное терминологическое обозначение начали использовать сразу после ее окончания. Оно приобрело популярность благодаря «Истории Тридцатилетней войны» Фридриха Шиллера и впоследствии стало устойчивым определением. По завершении войн, относящихся к типу Тридцатилетней, как наблюдатели, так и аналитики приходят к осознанию их исключительности, несопоставимости ни с одной из войн, свидетелями или участниками которых им доводилось быть. Вероятно, этот ретроспективный опыт связан с разрушительными для мирового порядка последствиями. Однако подобные последствия не запланированы и не предусмотрены теми, кто ведет эту войну, — они проявляются лишь по прошествии определенного времени.
Апокалиптические масштабы войн этого типа наблюдаются уже в их динамике. Четыре всадника из Откровения Иоанна Богослова помогают им уничтожать целые народы: эпизоотии и эпидемии обрушиваются на измученных голодом людей, которые, смешавшись с потоками беженцев, ищут спасения за стенами укрепленных городов, где погибают от эпидемий, чаще всего называемых чумой. «Апокалиптические масштабы» войн этого типа вместе с тем обстоятельством, что от насилия погибает не только вооруженный противник, но и прежде всего—в результате осадной или опустошительной войны — мирное население, являются причиной драматических демографических спадов в целых регионах. Для того чтобы справиться с их разрушительными последствиями, может понадобиться не одно десятилетие.
Тридцатилетняя война как повторяющаяся историческая модель
Сопоставление моделей в диахронии или синхронии — средство для выявления сходств и различий. Это важно отметить с самого начала, так как сопоставление часто путают с уподоблением. Сопоставляющий может в итоге обнаружить, что различия преобладают над сходствами, отражение одного в другом не содержит исследовательских перспектив и потому непродуктивно. Дело обстоит иначе, если сходства, на первый взгляд, преобладают над различиями, но об одном случае известно очень много, а о другом — слишком мало. Наблюдаемые сходства могут подарить надежду на то, что через параллели между хорошо известным и неизученным можно узнать больше о том, как неизвестное, порой скрытое или вовсе не проявившееся, могло бы выглядеть или развиваться. Сослагательная форма в обоих случаях необходима потому, что речь идет лишь о возможностях, которые, однако, становятся все правдоподобнее, когда компаративистские методы подменяют уже известное схожими историческими случаями. Из этой тесной параллели хорошо известного и заново открытого можно вывести новый тип, к которому мы можем и отнести частично известное, и уточнить до сих пор не изученное. События, отделенные от нас значительным промежутком времени, могут помочь предсказать дальнейшее развитие событий современности.
Конечно, это нельзя назвать точным знанием. Речь идет скорее об убедительности, чем об уверенности. Приблизительное знание, которое возникает при использовании этого метода, всегда должно быть обозначено как приблизительное. Достаточное количество исторических примеров, из совокупности которых выводится новый тип, так же помогает увеличить эффективность этого модельного анализа, как и тщательность изучения и классификации примеров, отобранных для выделения нового типа. В этом смысле остается только утверждать, что тип «Тридцатилетней войны», рассмотренный в этой статье, вряд ли может считаться исчерпывающей основой для всех схожих случаев, и за отсутствием достаточного количества подходящих примеров не стоит возлагать серьезные надежды на критерии, по которым могли бы быть выявлены сходства. Без сомнения, в этом методологическая ахиллесова пята выбранного подхода. Но в отсутствие альтернативы все же приходится его принять, не забывая о его сомнительном научном статусе.
Тип «Тридцатилетней войны» базируется, таким образом, на не слишком крепком фундаменте. Он не помогает прогнозировать исход современных военных конфликтов, тем более что мы должны учитывать контингентность политических решений, которую не могут исключить совершенствование или уточнение типологий: невозможно в точности предсказать решения участников военных действий или представителей политической власти, их поведение зависит от факторов, которые неспособна предугадать никакая система. Однако с помощью типизации можно наблюдать за динамикой развития и структурными моделями и составить возможный сценарий развития событий, придерживаясь которого можно на основе конструкций «когда-если» с большой долей уверенности предсказать некоторые варианты развития событий. Это мы и имеем в виду, когда говорим о «возвращении исторической модели» в некоторых войнах современности, в частности на Ближнем Востоке, или называем Тридцатилетнюю войну типологическим шаблоном.
Если в качестве главного признака войн типа «Тридцатилетней войны» мы рассматриваем соединение и наслоение разных типов военных действий, в первую очередь объединение государственной и гражданской, а также «большой» и «малой» войн, то очевидным становится сходство войн на Великих Африканских озерах Тропической Африки и войн последних лет, развернувшихся на Ближнем Востоке. Здесь в военных действиях в роли полноправных военных партий участвуют не только государства, но и представители субгосударственной власти и внешние интервенты, вступающие в войну, потому что неучастие в военных действиях может нанести серьезный ущерб их власти и влиянию. В итоге мы становимся свидетелями войны, которая направлена как на вооруженного противника и его полярные политические цели, так и на мирное население территорий, затронутых военными действиями (а на определенных этапах — в основном на него). Чаще всего подобный сценарий разворачивается в условиях открытой военной экономики, которая подразумевает постоянное снабжение оружием, деньгами и боевой силой извне — из отдаленных или близлежащих источников. Вследствие этого подобная война не может «перегореть»: ее ресурсы не исчерпываются, а значит, ничто не может вынудить военные формирования прекратить боевые действия и вступить в мирные переговоры.
Из-за наслоения различных военных моделей и открытой военной экономики эти войны могут продолжаться очень долго; ни баланс между расходами и прибылью, ни дефицит ресурсов не способны положить им конец. Войны в упомянутых регионах кардинально отличаются от войн Вестфальской системы, и есть основания полагать, что конфликты типа «Тридцатилетней войны» будут в значительной степени определять военную политику XXI века. Если это наблюдение хотя бы частично подтвердится, то его последствия скажутся не только на аналитической терминологии и системах научной классификации, но и на политической реакции на эти новые войны, особенно в попытках их географической и хронологической локализации: в утверждении «Ближнему Востоку необходим Вестфальский мир» акцент сместится с «мира» на «Вестфальский».
В заключение нужно привести еще одно наблюдение, выходящее за пределы существующих типологий: Тридцатилетняя война началась с богемского восстания, символически выраженного в Пражской дефенестрации. Войны на Ближнем Востоке начались с ожесточенного внутреннего конфликта при разделении власти. Этот конфликт, разгоревшийся одновременно в нескольких государствах, вошел в историю как «арабская весна». Борьба за конституцию и значимость ее основных положений для существующей власти шла весьма напряженно еще до того, как оказалась связана с религиозно-конфессиональным противостоянием, имевшим значение и ранее: в Богемии это были протестанты и католики, сторонники и противники Реформации, в Сирии — сунниты и шииты. В обоих случаях «конституционный конфликт» привел к тому, что радикальные религиозные группировки, добившиеся абсолютной гегемонии на истолкование священных текстов, определяли темп его эскалации. Конституционный конфликт, поначалу ограниченный конкретной географической областью, обращается к вопросам идентичности и веры, разрастается и становится причиной «солидаризации» других государств с противоборствующими партиями, превращаясь из внутригосударственного в международный. Однако было бы заблуждением объяснять эту «солидаризацию» исключительно религиозными взаимосвязями. С самого начала важную роль играют споры о пограничных территориях, а также борьба за гегемонию в соответствующем регионе. То, что в случае Центральной Европы определялось наследственностью (например, конфликт между Гессен-Касселем и Гессен-Дармштадтом, спровоцировавший борьбу за Марбург), на Ближнем Востоке было военным конфликтом из-за границ, установленных Великобританией и Францией после Первой мировой войны (соглашение Сайкса — Пико) и разделивших территории бывшей Османской империи на целый ряд государств, возглавляемых представителями династий с собственными национальными притязаниями. Так же как Европа беспокоилась о христианском (латинизированном) единстве, Ближний Восток беспокоится о том, что именно должно формировать его политический облик: единство или политический плюрализм. Можно рассматривать это как основополагающий спор о типе политической системы: империя с центром и периферией или мозаика государств с одним или несколькими носителями власти, первыми среди формально равных. В Европе на имперские позиции претендовал дом Габсбургов, Casa d'Austria, с их испанской и австрийской ветвями, где Мадрид отвечал за материальные ресурсы, а Вена—за императорскую власть и воображаемую легитимность. Франция, Швеция и Англия, в свою очередь, настаивали на государственном порядке, в условиях которого каждая страна заявляла претензию на господство. Эта конфликтная область на Ближнем Востоке не так однородна, так как здесь империалистические позиции занимает только ИГ со своим проектом установления халифата, в то время как Иран, Саудовская Аравия и Турция, скорее, стремятся к гегемонии, которая помогла бы им и за пределами государственных границ завоевать политическую и экономическую власть над целым регионом. В обоих случаях можно отметить, что религиозно-конфессиональные вопросы усугубляют борьбу за гегемонию, хотя и не затрагиваются в ней напрямую.
Продолжив эту параллель, можно сопоставить масштабные и незначительные театры военных действий с определенной хронологической последовательностью этих действий: Тридцатилетняя война охватила всю территорию современной Германии от Рейна до Одера и от Альп до Северного и Балтийского морей. Поля сражений находились и на территории датской Ютландии, Нидерландов, стран Балтии, части Польши, а также герцогств Пьемонт и Мантуя и на венгерских территориях. То же относится и к центральному конфликту на Ближнем Востоке, развернувшемуся на территории Сирии и Ирака, но захватившему «внешние районы» Йемена, Ливии и некоторые области Кавказа.
Что касается временной последовательности, то Тридцатилетняя война постепенно превращалась из отдельных «театров военных действий» в большую объединенную войну. По этой шкале измерений война на Ближнем Востоке пока находится на начальной стадии, так как войны в Ливии и Йемене еще не стали частью Сирийской войны. Предотвратить подобное развитие событий смогла бы умная и проницательная политическая стратегия, ведь как раз в этом случае источником ума и проницательности может стать пример Тридцатилетней войны: еще не поздно локализовать отделенные друг от друга военные конфликты. Если бы эта возможность была использована, например, в 1622 или 1629 году, сегодня мы, скорее, говорили бы не о Тридцатилетней войне, но о богемско-пфальцской и датско-нижнесаксонской войнах. В случае с Ближним Востоком этот шанс еще не упущен. Но если аналогия верна и если конфликты не удастся разрешить — будет слишком поздно, и тогда все войны объединятся в одну опустошительную войну.
История многому учит, однако это обучение куда опаснее и сложнее, чем думают те, кто столь часто и с таким удовольствием рассуждает об «уроках истории».
джерело
Конечно, это нельзя назвать точным знанием. Речь идет скорее об убедительности, чем об уверенности. Приблизительное знание, которое возникает при использовании этого метода, всегда должно быть обозначено как приблизительное. Достаточное количество исторических примеров, из совокупности которых выводится новый тип, так же помогает увеличить эффективность этого модельного анализа, как и тщательность изучения и классификации примеров, отобранных для выделения нового типа. В этом смысле остается только утверждать, что тип «Тридцатилетней войны», рассмотренный в этой статье, вряд ли может считаться исчерпывающей основой для всех схожих случаев, и за отсутствием достаточного количества подходящих примеров не стоит возлагать серьезные надежды на критерии, по которым могли бы быть выявлены сходства. Без сомнения, в этом методологическая ахиллесова пята выбранного подхода. Но в отсутствие альтернативы все же приходится его принять, не забывая о его сомнительном научном статусе.
Тип «Тридцатилетней войны» базируется, таким образом, на не слишком крепком фундаменте. Он не помогает прогнозировать исход современных военных конфликтов, тем более что мы должны учитывать контингентность политических решений, которую не могут исключить совершенствование или уточнение типологий: невозможно в точности предсказать решения участников военных действий или представителей политической власти, их поведение зависит от факторов, которые неспособна предугадать никакая система. Однако с помощью типизации можно наблюдать за динамикой развития и структурными моделями и составить возможный сценарий развития событий, придерживаясь которого можно на основе конструкций «когда-если» с большой долей уверенности предсказать некоторые варианты развития событий. Это мы и имеем в виду, когда говорим о «возвращении исторической модели» в некоторых войнах современности, в частности на Ближнем Востоке, или называем Тридцатилетнюю войну типологическим шаблоном.
Если в качестве главного признака войн типа «Тридцатилетней войны» мы рассматриваем соединение и наслоение разных типов военных действий, в первую очередь объединение государственной и гражданской, а также «большой» и «малой» войн, то очевидным становится сходство войн на Великих Африканских озерах Тропической Африки и войн последних лет, развернувшихся на Ближнем Востоке. Здесь в военных действиях в роли полноправных военных партий участвуют не только государства, но и представители субгосударственной власти и внешние интервенты, вступающие в войну, потому что неучастие в военных действиях может нанести серьезный ущерб их власти и влиянию. В итоге мы становимся свидетелями войны, которая направлена как на вооруженного противника и его полярные политические цели, так и на мирное население территорий, затронутых военными действиями (а на определенных этапах — в основном на него). Чаще всего подобный сценарий разворачивается в условиях открытой военной экономики, которая подразумевает постоянное снабжение оружием, деньгами и боевой силой извне — из отдаленных или близлежащих источников. Вследствие этого подобная война не может «перегореть»: ее ресурсы не исчерпываются, а значит, ничто не может вынудить военные формирования прекратить боевые действия и вступить в мирные переговоры.
Из-за наслоения различных военных моделей и открытой военной экономики эти войны могут продолжаться очень долго; ни баланс между расходами и прибылью, ни дефицит ресурсов не способны положить им конец. Войны в упомянутых регионах кардинально отличаются от войн Вестфальской системы, и есть основания полагать, что конфликты типа «Тридцатилетней войны» будут в значительной степени определять военную политику XXI века. Если это наблюдение хотя бы частично подтвердится, то его последствия скажутся не только на аналитической терминологии и системах научной классификации, но и на политической реакции на эти новые войны, особенно в попытках их географической и хронологической локализации: в утверждении «Ближнему Востоку необходим Вестфальский мир» акцент сместится с «мира» на «Вестфальский».
В заключение нужно привести еще одно наблюдение, выходящее за пределы существующих типологий: Тридцатилетняя война началась с богемского восстания, символически выраженного в Пражской дефенестрации. Войны на Ближнем Востоке начались с ожесточенного внутреннего конфликта при разделении власти. Этот конфликт, разгоревшийся одновременно в нескольких государствах, вошел в историю как «арабская весна». Борьба за конституцию и значимость ее основных положений для существующей власти шла весьма напряженно еще до того, как оказалась связана с религиозно-конфессиональным противостоянием, имевшим значение и ранее: в Богемии это были протестанты и католики, сторонники и противники Реформации, в Сирии — сунниты и шииты. В обоих случаях «конституционный конфликт» привел к тому, что радикальные религиозные группировки, добившиеся абсолютной гегемонии на истолкование священных текстов, определяли темп его эскалации. Конституционный конфликт, поначалу ограниченный конкретной географической областью, обращается к вопросам идентичности и веры, разрастается и становится причиной «солидаризации» других государств с противоборствующими партиями, превращаясь из внутригосударственного в международный. Однако было бы заблуждением объяснять эту «солидаризацию» исключительно религиозными взаимосвязями. С самого начала важную роль играют споры о пограничных территориях, а также борьба за гегемонию в соответствующем регионе. То, что в случае Центральной Европы определялось наследственностью (например, конфликт между Гессен-Касселем и Гессен-Дармштадтом, спровоцировавший борьбу за Марбург), на Ближнем Востоке было военным конфликтом из-за границ, установленных Великобританией и Францией после Первой мировой войны (соглашение Сайкса — Пико) и разделивших территории бывшей Османской империи на целый ряд государств, возглавляемых представителями династий с собственными национальными притязаниями. Так же как Европа беспокоилась о христианском (латинизированном) единстве, Ближний Восток беспокоится о том, что именно должно формировать его политический облик: единство или политический плюрализм. Можно рассматривать это как основополагающий спор о типе политической системы: империя с центром и периферией или мозаика государств с одним или несколькими носителями власти, первыми среди формально равных. В Европе на имперские позиции претендовал дом Габсбургов, Casa d'Austria, с их испанской и австрийской ветвями, где Мадрид отвечал за материальные ресурсы, а Вена—за императорскую власть и воображаемую легитимность. Франция, Швеция и Англия, в свою очередь, настаивали на государственном порядке, в условиях которого каждая страна заявляла претензию на господство. Эта конфликтная область на Ближнем Востоке не так однородна, так как здесь империалистические позиции занимает только ИГ со своим проектом установления халифата, в то время как Иран, Саудовская Аравия и Турция, скорее, стремятся к гегемонии, которая помогла бы им и за пределами государственных границ завоевать политическую и экономическую власть над целым регионом. В обоих случаях можно отметить, что религиозно-конфессиональные вопросы усугубляют борьбу за гегемонию, хотя и не затрагиваются в ней напрямую.
Продолжив эту параллель, можно сопоставить масштабные и незначительные театры военных действий с определенной хронологической последовательностью этих действий: Тридцатилетняя война охватила всю территорию современной Германии от Рейна до Одера и от Альп до Северного и Балтийского морей. Поля сражений находились и на территории датской Ютландии, Нидерландов, стран Балтии, части Польши, а также герцогств Пьемонт и Мантуя и на венгерских территориях. То же относится и к центральному конфликту на Ближнем Востоке, развернувшемуся на территории Сирии и Ирака, но захватившему «внешние районы» Йемена, Ливии и некоторые области Кавказа.
Что касается временной последовательности, то Тридцатилетняя война постепенно превращалась из отдельных «театров военных действий» в большую объединенную войну. По этой шкале измерений война на Ближнем Востоке пока находится на начальной стадии, так как войны в Ливии и Йемене еще не стали частью Сирийской войны. Предотвратить подобное развитие событий смогла бы умная и проницательная политическая стратегия, ведь как раз в этом случае источником ума и проницательности может стать пример Тридцатилетней войны: еще не поздно локализовать отделенные друг от друга военные конфликты. Если бы эта возможность была использована, например, в 1622 или 1629 году, сегодня мы, скорее, говорили бы не о Тридцатилетней войне, но о богемско-пфальцской и датско-нижнесаксонской войнах. В случае с Ближним Востоком этот шанс еще не упущен. Но если аналогия верна и если конфликты не удастся разрешить — будет слишком поздно, и тогда все войны объединятся в одну опустошительную войну.
История многому учит, однако это обучение куда опаснее и сложнее, чем думают те, кто столь часто и с таким удовольствием рассуждает об «уроках истории».
джерело
~
Сподобалась стаття? Подаруйте нам, будь-ласка, чашку кави й ми ще більш прискоримося та вдосконалимося задля Вас.) SG SOFIA - медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!