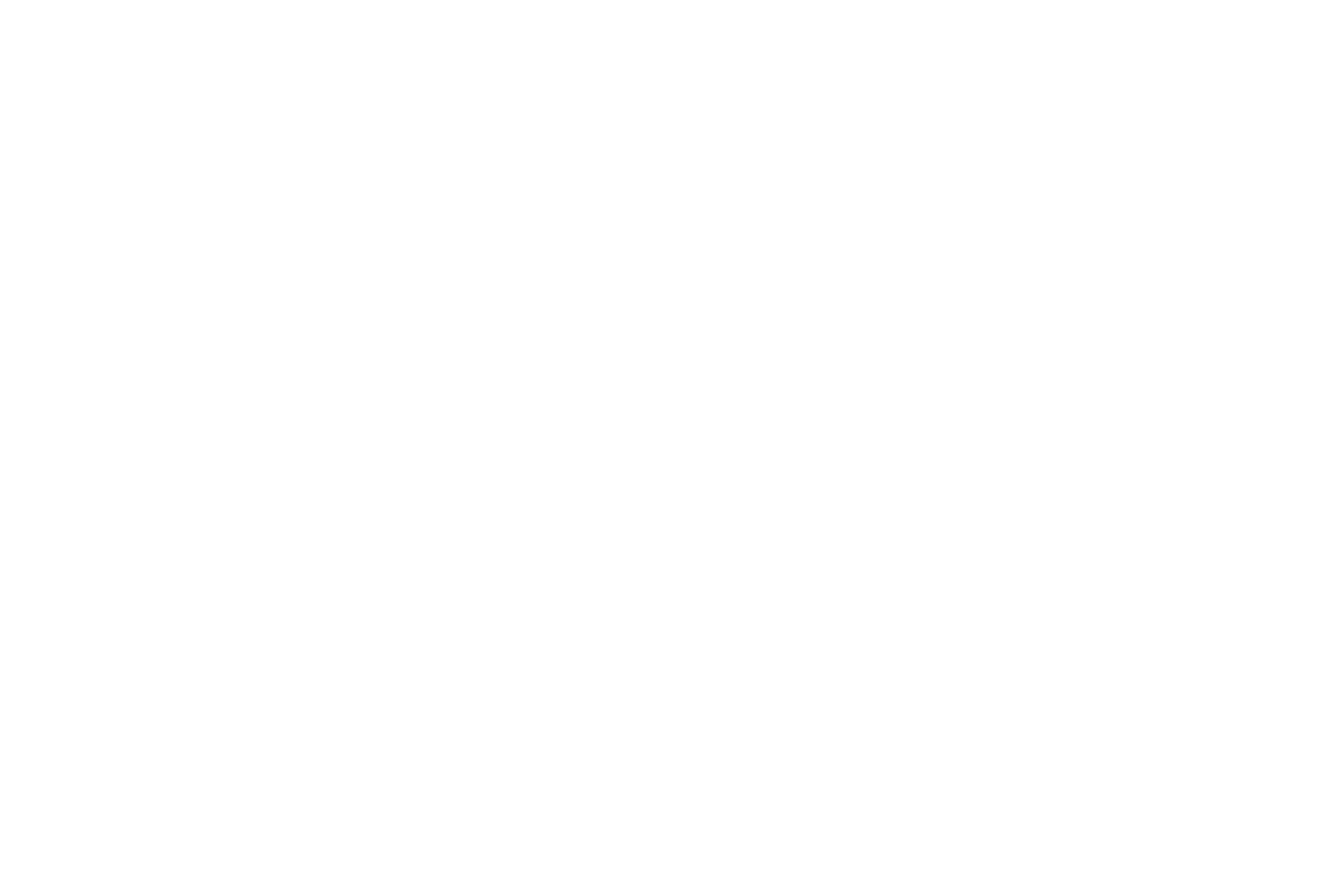© 2019 Strategic Group.Media
Разыскивая Глобальный Восток:
мышление между Севером и Югом
Разделение мира на Глобальный Север и Глобальный Юг стало общепринятым способом осмысления глобальных различий с конца холодной войны. Однако эта бинарная оппозиция игнорирует то, что в данной статье называется Глобальным Востоком — те страны и общества, которые занимают промежуточное положение между Севером и Югом. Статья проблематизирует геополитику знания, приведшую к исключению Глобального Востока не только из Глобальных Севера и Юга, но и в целом из представлений о глобальности. Доказывается, что для того, чтобы вернуть Глобальный Восток в теорию, нужно принять позицию стратегического эссенциализма. С этой целью статья прослеживает глобальные связи продаваемого ИКЕА граненого стакана. Это позволяет продемонстрировать неотложность переосмысления Глобального Востока как находящегося в центре глобальных связей, а не отделенного от них. Концептуализация Глобального Востока как лиминального пространства проблематизирует понятия Севера и Юга в направлении более инклюзивного, но также и более неопределенного теоретизирования.
Введение: теряя Восток
На мгновение вообразите себе Глобальный Север. Скорее всего, вы подумаете о странах Северной Америки и Западной Европы. Возможно, придут на ум Япония и Австралия, богатые государства и крупные столичные центры. А как обстоят дела с Глобальным Югом? Вспоминаются Латинская Америка и Африка, а следом и множество азиатских стран. Иными словами, те пространства, которым не удается наслаждаться теми же привилегиями, что дарованы странам Севера. Мир, открывающийся нашему внутреннему взору, кажется полным, но ключевое слово здесь — «кажется». Бинарная оппозиция Севера и Юга создает черную дыру, в которую проваливаются все те общества, которым не удается встроиться в одну из категорий. Общества, слишком богатые для Юга и слишком бедные для Севера. И эту черную дыру не назовешь маленькой: она поглощает общества, принимавшие участие в одном из самых значимых глобальных экспериментов XX века — создании коммунизма. Этот, как мы будем говорить в данной статье, «Глобальный Восток» остается в тени где-то между Глобальным Севером и Югом, так и не вписавшись ни в одну из категорий. Эта статья призвана пролить на него свет.
Различение богатого, могущественного Глобального Севера и бедного, менее сильного Глобального Юга — пожалуй, наиболее влиятельный способ категоризации мира и инструмент размышлений о глобальных различиях сегодняшнего дня. И это различение не просто сформировало плодородную почву для академических исследований, на которой выросло несколько журналов, множество исследовательских центров и сотни книг, в чье заглавие был вынесен «Глобальный Юг». Оно проникло в обиход исследователей, активистов, и все чаще встречается в спорах о стратегиях развития. К примеру, в дискуссиях об изменениях климата разделение «Север — Юг» часто используется для обозначения различных политических подходов к проблеме глобального потепления. Когда в начале века в «Целях развития тысячелетия» ООН одним из глобальных вызовов вновь обозначили бедность, разделение Севера и Юга получило еще больший вес.
Глобальные Север и Юг — не просто географические дескрипторы; сегодня они представляют собой в первую очередь политический и эпистемологический проект. Они знаменуют собой поворот от языка, в центре которого — категории развития (developmentalism) и телеологического прогресса, в течение многих десятилетий маркировавшие отношение Глобального Севера к Югу (и определяющие его и поныне). Они обозначают переориентацию системы производства знания с универсализма и европоцентризма, отличающего Север, на признание ценности множественных практик, обнаруживаемых на Глобальном Юге. Они же — политический источник вдохновения, влияющий на перестройку глобальной политики, дающий голос большему числу маргинализированных наций (Dirlik, 2007; Mignolo, 2011). Глобальный Юг как таковой — плоть от плоти постколониального проекта по высвобождению речи субалтернов (Spivak, 1988а).
Падение большинства коммунистических режимов (так называемого Второго мира), случившееся в период с 1989 по 1992 год, не поставило под вопрос различение Севера и Юга. Наоборот, оно стало его победой. Согласно Фукуяме (Fukuyama, 1992), конец истории не нивелирует различия богатых и бедных (то есть Севера и Юга), но стирает различие капитализма и коммунизма. Как только исчез коммунистический Другой, растворилось и идеологическое разделение на Восток и Запад. «Категория „Второго мира" вышла из употребления, стоило распасться Советскому Союзу... Пришло время для новой, упрощающей категоризации. Первый мир стал Севером, а третий — Югом» (Reuveny, Thompson, 2007: 557). Но что сталось со Вторым миром?
Вместо того чтобы присоединиться к Северу или Югу, Восток провалился в трещины. Говоря «Восток», я не указываю на географическую область, скорее, я говорю об эпистемическом пространстве — лиминальном пространстве между Севером и Югом. Я определяю этот Восток через опыт бывшего Второго мира, но Восток как Глобальный Восток не следует ограничивать лишь рамками этого опыта и, конечно, к нему следует относить и другие лиминальные общества. Падение политического проекта Второго мира — коммунизма — стерло Восток с глобальной карты; исчезли все характерные черты коммунистического правления, существовавшие более 70 лет. Восток слишком богат, чтобы по-настоящему присоединиться к Югу, но слишком беден, чтобы стать частью Севера. Для периферии в нем слишком много силы, но он слишком слаб, чтобы быть центром. Отношения силы двунаправлены: Восток вбирает в себя и колонизаторов, и колонизируемых, агрессоров и жертв; а некоторым странам удавалось одновременно сочетать оба статуса (Tlostanova, 2008). Другими словами, Восток неуловим и избегает категоризаций.
В глобальной циркуляции знаков Восток и вполовину не так легитимен, как Глобальный Юг, в котором колониализм создал общие языки, институции, системы знания и социальные связи. Мировым медиа и образовательным центрам Уганда знакома больше Украины; Чили звучит привычней Чехии, а Лаос — ближе Латвии. Варгас Льоса, Гарсия Маркес и Кутзее узнаются моментально, в то время как Алексиевич, Мюллер и Шимборская звучат словно инопланетные фамилии. Все шестеро — недавние лауреаты Нобелевской премии по литературе.
Получается, что Восток находится в состоянии двойного исключения. Во-первых, его не считают частью Глобального Юга. Обложка книги «Более бедные нации» Виджая Прашада (Prashad, 2013), одной из исчерпывающих исторически- обзорных публикаций о Глобальном Юге, открыто демонстрирует географические ориентиры автора: на карте Глобального Юга отмечены Турция, Аргентина и Чили, но нет и следа стран победнее — Кыргызстана, Молдовы и Украины. Многие тома обзорных работ о Глобальном Юге пропускают Глобальный Восток. «Повседневная география Глобального Юга» (Rigg, 2007) содержит 90 кейсов из 36 стран, и ни один из них не затрагивает Глобальный Восток. «Пособие по городам Глобального Юга», по крайней мере, отмечает, что «большая часть Евразии нас не интересует» (Parnell, Oldfield, 2014: 3). «Институты Глобального Юга» (Braveboy-Wagner, 2009) ограничиваются Азией, Африкой и Латинской Америкой. Большинство исследователей настаивают на подвижности понятия Глобального Юга, отказываясь примерять строгие границы (Dirlik, 2007; Roy, Crane, 2015), и тем тревожней становится эта выборочная немота. Этому понятию как будто не хватает текучести, достаточной, чтобы включить в себя хотя бы частичку бывшего Второго мира.
Но в то же время Восток отделен и от Глобального Севера. В текстах о мировых глобальных городах и центрах, колыбелях демократии и рыночного капитализма, Востоку уготована эпизодическая роль без слов. Страны Востока, возможно, и движутся в сторону Севера, но в то же время они обречены на бесконечное движение к ускользающей модерности. Объект североамериканской и европейской mission civilisatrice, Восток определяется через свою «отсталость», которую в течение многих столетий фиксируют как отличительную черту Восточной Европы (Kovacevic, 2008; Neumann, 1999; Todorova, 1997; Wolff, 1994). Он выступает в роли Другого, через противопоставление которому Западная Европа в течение многих лет выстраивает свой нарратив цивилизованности и прогресса.
Эта статья — небольшой шаг в глобальной геополитике знания, предпринятый, чтобы вернуть Восток на карту когнитивного производства. Мы это делаем с помощью введения категории Глобального Востока — не только отличного от других частей мира, но и связанного с ними; равного, а не подчиненного Северу и Западу. И это не просто важное эпистемическое решение для тех, кто живет на Глобальном Востоке, сообщающее ценность многообразию и связанности их опыта, а также для ученых, работающих с Глобальным Востоком, которым часто не удается разместить свой объект исследования в глобальной исследовательской повестке, рассекающей мир на Север и Юг.
Этот шаг еще значительней отзывается в пространстве производства теорий. Поскольку хорошая, а уж тем более глобальная теория, создаваемая в эпоху теоретизирования вне Европы и Америки (Bhabha, 1994; Chakrabarty, 2007; Mbembe, 2000), не может появиться без понимания разнообразия и взаимосвязанности описываемых ею социальных реальностей, без искреннего воодушевления ими. Размышлять о Глобальном Востоке, кажется, — задача, более значимая как раз для Глобального Севера и Глобального Юга. Серьезное отношение к Глобальному Востоку не может появиться без декомпозиции существующих очевидностей, касающихся богатых и бедных, сильных и бессильных, к которым мы уже так успели привыкнуть. Восстановление Глобального Востока в правах предполагает размышление о нем из промежутков, зазоров, существующих между Севером и Югом, — не только ради него самого, но также ради Севера и Юга.
Эта статья стремится создать условия для размышлений о Глобальном Востоке посредством четырехступенчатой схемы. Во-первых, мы анализируем «Восточность» как затруднительное состояние, существующее не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между Севером и Югом. Таким образом, мы определяем «Восточность» скорее как лиминальное состояние промежуточности — не-вполне-Север, не-вполне-Юг, — нежели как географическое положение. Эта промежуточность объясняет безразличие со стороны как Севера, так и Юга. Во-вторых, мы увидим, что Восток остается непознанным, поскольку находится за пределами схем и проводящих путей западной архитектуры знания. В-третьих, мы стремимся доказать необходимость стратегического эссенциализма Востока, который подчеркивает единство в различии его промежуточного положения и возрождает его как политический проект. Наконец, мы показываем, как и почему Восток должен быть Глобальным Востоком: его следует представлять не отрезанным от глобальных отношений, а в самом их центре. Таким образом, статья утверждает открытость Глобального Востока, доступную, невзирая на попытки отсечь его стеной изнутри и снаружи.
Различение богатого, могущественного Глобального Севера и бедного, менее сильного Глобального Юга — пожалуй, наиболее влиятельный способ категоризации мира и инструмент размышлений о глобальных различиях сегодняшнего дня. И это различение не просто сформировало плодородную почву для академических исследований, на которой выросло несколько журналов, множество исследовательских центров и сотни книг, в чье заглавие был вынесен «Глобальный Юг». Оно проникло в обиход исследователей, активистов, и все чаще встречается в спорах о стратегиях развития. К примеру, в дискуссиях об изменениях климата разделение «Север — Юг» часто используется для обозначения различных политических подходов к проблеме глобального потепления. Когда в начале века в «Целях развития тысячелетия» ООН одним из глобальных вызовов вновь обозначили бедность, разделение Севера и Юга получило еще больший вес.
Глобальные Север и Юг — не просто географические дескрипторы; сегодня они представляют собой в первую очередь политический и эпистемологический проект. Они знаменуют собой поворот от языка, в центре которого — категории развития (developmentalism) и телеологического прогресса, в течение многих десятилетий маркировавшие отношение Глобального Севера к Югу (и определяющие его и поныне). Они обозначают переориентацию системы производства знания с универсализма и европоцентризма, отличающего Север, на признание ценности множественных практик, обнаруживаемых на Глобальном Юге. Они же — политический источник вдохновения, влияющий на перестройку глобальной политики, дающий голос большему числу маргинализированных наций (Dirlik, 2007; Mignolo, 2011). Глобальный Юг как таковой — плоть от плоти постколониального проекта по высвобождению речи субалтернов (Spivak, 1988а).
Падение большинства коммунистических режимов (так называемого Второго мира), случившееся в период с 1989 по 1992 год, не поставило под вопрос различение Севера и Юга. Наоборот, оно стало его победой. Согласно Фукуяме (Fukuyama, 1992), конец истории не нивелирует различия богатых и бедных (то есть Севера и Юга), но стирает различие капитализма и коммунизма. Как только исчез коммунистический Другой, растворилось и идеологическое разделение на Восток и Запад. «Категория „Второго мира" вышла из употребления, стоило распасться Советскому Союзу... Пришло время для новой, упрощающей категоризации. Первый мир стал Севером, а третий — Югом» (Reuveny, Thompson, 2007: 557). Но что сталось со Вторым миром?
Вместо того чтобы присоединиться к Северу или Югу, Восток провалился в трещины. Говоря «Восток», я не указываю на географическую область, скорее, я говорю об эпистемическом пространстве — лиминальном пространстве между Севером и Югом. Я определяю этот Восток через опыт бывшего Второго мира, но Восток как Глобальный Восток не следует ограничивать лишь рамками этого опыта и, конечно, к нему следует относить и другие лиминальные общества. Падение политического проекта Второго мира — коммунизма — стерло Восток с глобальной карты; исчезли все характерные черты коммунистического правления, существовавшие более 70 лет. Восток слишком богат, чтобы по-настоящему присоединиться к Югу, но слишком беден, чтобы стать частью Севера. Для периферии в нем слишком много силы, но он слишком слаб, чтобы быть центром. Отношения силы двунаправлены: Восток вбирает в себя и колонизаторов, и колонизируемых, агрессоров и жертв; а некоторым странам удавалось одновременно сочетать оба статуса (Tlostanova, 2008). Другими словами, Восток неуловим и избегает категоризаций.
В глобальной циркуляции знаков Восток и вполовину не так легитимен, как Глобальный Юг, в котором колониализм создал общие языки, институции, системы знания и социальные связи. Мировым медиа и образовательным центрам Уганда знакома больше Украины; Чили звучит привычней Чехии, а Лаос — ближе Латвии. Варгас Льоса, Гарсия Маркес и Кутзее узнаются моментально, в то время как Алексиевич, Мюллер и Шимборская звучат словно инопланетные фамилии. Все шестеро — недавние лауреаты Нобелевской премии по литературе.
Получается, что Восток находится в состоянии двойного исключения. Во-первых, его не считают частью Глобального Юга. Обложка книги «Более бедные нации» Виджая Прашада (Prashad, 2013), одной из исчерпывающих исторически- обзорных публикаций о Глобальном Юге, открыто демонстрирует географические ориентиры автора: на карте Глобального Юга отмечены Турция, Аргентина и Чили, но нет и следа стран победнее — Кыргызстана, Молдовы и Украины. Многие тома обзорных работ о Глобальном Юге пропускают Глобальный Восток. «Повседневная география Глобального Юга» (Rigg, 2007) содержит 90 кейсов из 36 стран, и ни один из них не затрагивает Глобальный Восток. «Пособие по городам Глобального Юга», по крайней мере, отмечает, что «большая часть Евразии нас не интересует» (Parnell, Oldfield, 2014: 3). «Институты Глобального Юга» (Braveboy-Wagner, 2009) ограничиваются Азией, Африкой и Латинской Америкой. Большинство исследователей настаивают на подвижности понятия Глобального Юга, отказываясь примерять строгие границы (Dirlik, 2007; Roy, Crane, 2015), и тем тревожней становится эта выборочная немота. Этому понятию как будто не хватает текучести, достаточной, чтобы включить в себя хотя бы частичку бывшего Второго мира.
Но в то же время Восток отделен и от Глобального Севера. В текстах о мировых глобальных городах и центрах, колыбелях демократии и рыночного капитализма, Востоку уготована эпизодическая роль без слов. Страны Востока, возможно, и движутся в сторону Севера, но в то же время они обречены на бесконечное движение к ускользающей модерности. Объект североамериканской и европейской mission civilisatrice, Восток определяется через свою «отсталость», которую в течение многих столетий фиксируют как отличительную черту Восточной Европы (Kovacevic, 2008; Neumann, 1999; Todorova, 1997; Wolff, 1994). Он выступает в роли Другого, через противопоставление которому Западная Европа в течение многих лет выстраивает свой нарратив цивилизованности и прогресса.
Эта статья — небольшой шаг в глобальной геополитике знания, предпринятый, чтобы вернуть Восток на карту когнитивного производства. Мы это делаем с помощью введения категории Глобального Востока — не только отличного от других частей мира, но и связанного с ними; равного, а не подчиненного Северу и Западу. И это не просто важное эпистемическое решение для тех, кто живет на Глобальном Востоке, сообщающее ценность многообразию и связанности их опыта, а также для ученых, работающих с Глобальным Востоком, которым часто не удается разместить свой объект исследования в глобальной исследовательской повестке, рассекающей мир на Север и Юг.
Этот шаг еще значительней отзывается в пространстве производства теорий. Поскольку хорошая, а уж тем более глобальная теория, создаваемая в эпоху теоретизирования вне Европы и Америки (Bhabha, 1994; Chakrabarty, 2007; Mbembe, 2000), не может появиться без понимания разнообразия и взаимосвязанности описываемых ею социальных реальностей, без искреннего воодушевления ими. Размышлять о Глобальном Востоке, кажется, — задача, более значимая как раз для Глобального Севера и Глобального Юга. Серьезное отношение к Глобальному Востоку не может появиться без декомпозиции существующих очевидностей, касающихся богатых и бедных, сильных и бессильных, к которым мы уже так успели привыкнуть. Восстановление Глобального Востока в правах предполагает размышление о нем из промежутков, зазоров, существующих между Севером и Югом, — не только ради него самого, но также ради Севера и Юга.
Эта статья стремится создать условия для размышлений о Глобальном Востоке посредством четырехступенчатой схемы. Во-первых, мы анализируем «Восточность» как затруднительное состояние, существующее не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между Севером и Югом. Таким образом, мы определяем «Восточность» скорее как лиминальное состояние промежуточности — не-вполне-Север, не-вполне-Юг, — нежели как географическое положение. Эта промежуточность объясняет безразличие со стороны как Севера, так и Юга. Во-вторых, мы увидим, что Восток остается непознанным, поскольку находится за пределами схем и проводящих путей западной архитектуры знания. В-третьих, мы стремимся доказать необходимость стратегического эссенциализма Востока, который подчеркивает единство в различии его промежуточного положения и возрождает его как политический проект. Наконец, мы показываем, как и почему Восток должен быть Глобальным Востоком: его следует представлять не отрезанным от глобальных отношений, а в самом их центре. Таким образом, статья утверждает открытость Глобального Востока, доступную, невзирая на попытки отсечь его стеной изнутри и снаружи.
В соответствии с общепринятым употреблением я пишу «коммунизм», говоря об идеологии, и использую «социализм», говоря о социально-политических реалиях.
Затруднительное положение «Восточности»: не вполне Север, не вполне Юг
Когда я читаю курс, посвященный Глобальному Востоку, я сталкиваюсь с удивлением студентов. Их изумляет, что я вообще заинтересовался таким унылым местом. Бразилия — сексуальная, Кения — классная, Китай — динамичный, а вот Восток скучный. Узнав, что в этой ловушке обнаруживают себя и другие исследователи, я одновременно пережил радость и уныние. Описывая литературные особенности Востока, Микановский отмечает:
“
Я знаю известного регионалиста, историка, читающего регулярный курс по истории Восточной Европы, и он сказал мне, что каждый год ему приходится отвечать на вопрос студентов: неужели в этом «сумрачном месте» люди действительно способны любить и смеяться. Полагаю, что если бы я читал курс по «Черному континенту», то мне хотя бы сочувствовала горстка прекраснодушных персонажей, однако это не ждет меня, избравшего своим предметом «сумрачное место», не вызывающее никаких эмоций: терра инкогнита, в которой Македония, Молдавия, Черногория и Молвания склеиваются в единую аморфную массу.
«Молвания» - это книга, пародирующая путеводители. В путеводителе описывается вымышленная страна Молвания, постсоветское государство, нация, которую называют «родиной коклюша» и «владельцем старейшего ядерного реактора в Европе». Его создали австралийцы Том Глейснер, Санто Чилауро и Роб Ситч.
Французский оригинал гораздо содержательнее перевода: «tout est prevu, trouve, prouve, exploite» (Fanon, 1952: 97).
Валлерстайн предлагает трехуровневую структуру. Общества разделяются на ядро, полупери- ферию и периферию. Это разделение — воплощение двух форм, которые принимают экономические процессы: «процессы в ядре» с высокими зарплатами, передовой технологией и диверсификацией производства, — и «периферийные процессы», которым остаются низкие зарплаты, устаревшие технологии и более простые способы производства. Промежуточная категория полупериферии — не просто экономическое сочетание двух других категорий. Важно, что у нее есть политическая функция: она обеспечивает политическую стабильность, смягчая поляризацию ядра и периферии. «Можно привести убедительные доводы в пользу того, что мировая экономика способна функционировать и без полупериферии. Но она была бы куда менее стабильной политически» (Wallerstein, 1979: 23). Согласно Валлерстайну (Ibid.: 69), полупериферийные страны отличают две характерные черты: протекционистская политика («внутренний рынок для отечественных товаров») и политизация экономических решений.
Проблема Востока отмечена двойным исключением из привилегированного Глобального Севера и из маргинализированного Глобального Юга. Но это не чистый Другой. Скорее, это полуинаковость (Tlostanova, 2017), недоориентализация (Wolff, 1994). Восток иной, но похожий, Другой — но не совсем. Он остается «серой зоной» неопределенности (Knudsen, Frederiksen, 2015) и серым пространством. Глобальный Север, часто выступающий в обличье «Европы», исполняет роль телеологического горизонта, по отношению к которому Восток становится не-вполне- Севером. Страны могут становиться участниками Евросоюза, но тончайшие дистинкции, встроенные в габитус еврократов из брюссельских коридоров власти, продолжают воспроизводить контраст между Востоком и Западом (Kuus, 2014); немаловажен и расизм, с которым сталкиваются восточноевропейские иммигранты в Западной Европе (Nowicka, 2017). Востоку может быть доступна какая-то часть европейского потребления — как, например, повсеместный евроремонт (Sgibnev, 2015), но этого недостаточно, чтобы стать полноценным европейцем. Эта «Восточность», как ее назвали некоторые исследователи (Kuus, 2007; Zarycki, 2014), десятилетиями, если не столетиями, служила отметиной Востока, невзирая на вхождение в Евросоюз, десятилетия экономического роста, широкую приватизацию и демократизацию.
В этом смысле Восток во многом проживает постколониальное состояние пребывания в «зале ожидания истории» (Chakrabarty, 2007: 8), стремясь к модерности, в которую можно включиться, но доступ к которой может гарантировать лишь щедрость и добродетельность Европы, расширяющей свою mission civilisatrice и все связанные с ней практики до «Дикого Востока» (Gille, 2016; Horvat, Stiks, 2012; Melegh, 2006). Поскольку, если бы даже Востоку и удалось очутиться в Европе, он оказался бы в ситуации, в которой «всё [уже] предопределено, продумано, продемонстрировано, доведено до максимума» — позволим себе процитировать знаменитую фразу Франца Фанона (Fanon, 2008: 91). Восток скрепляют не политическое единство, не общие экономические связи или культурные традиции (Наші et al, 2016) и уже не общий опыт социализма (Muller, 2019), а совместное чувство одновременного различия и сходства с аморфной Европой.
Конечно, если более интересен политэкономический подход, Восток можно прочитать и через трехуровневую теорию мир-системного анализа капитализма, предложенную Иммануилом Валлерстайном (Wallerstein, 1979) - Но это несколько запутает ситуацию. Согласно Валлерстайну (Wallerstein, 1976), социалистические государства принадлежали к странам полупериферии, но общая картина несколько изменилась, стоило социализму рухнуть. Сегодня некоторые государства Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы могут считаться периферийными, в то время как большинство восточноевропейских стран, ныне входящих в Европейский союз, переживают экономический рост и все ближе смещаются к центру. По крайней мере, такое наблюдение предлагается в нескольких источниках, пытавшихся применить категории Валлерстайна к современной ситуации (Babones, Babcicky, 2011; Bradshaw, 2001; Knox, Agnew, McCarthy, 2014: 22). К примеру, Румыния или Россия, остающиеся в положении полупериферии, оказываются в той же категории, что и, например, Греция, Чили, Ботсвана и Вьетнам, — категория прежняя, но достаточно гетерогенная. Таким образом, мир-системный анализ представляет расщепленный образ Востока: частично Север, частично Юг и частично — что-то между.
Несмотря на то что Восток, этот наполовину Другой (demi-Other) Запада, оказывается в положении, подобном постколониальной ситуации Юга, он исключен из борьбы Юга за эмансипацию. Восток в равной степени не вполне Север и не вполне Юг. В стремлении к деколониальному знанию и теоретическому осмыслению Юга Восток не фигурирует; и дело не в том, что его просто присоединили к Латинской Америке, Азии и Африке. Нет, его попросту не включили в этот проект. И это вряд ли удивит нас, если мы обратимся к типичному определению Севера и Юга: «Оппозиция Севера и Юга обычно рассматривается как социоэкономическое и политическое разделение. Определения Глобального Севера обычно включают Соединенные Штаты, Канаду, развитые страны Европы и Восточную Азию. Глобальный Юг образуют Африка, Латинская Америка, а также развивающиеся страны Азии, включая Средний Восток» (цит. по: Mignolo, 2014а).
Это определение обходит стороной Глобальный Восток. Его же обходят и теоретические разработки с позиций Юга. Знаковая книга социолога Рэйвин Коннелл «Южная теория» (Raewyn Connell, 2007) размещает Юг в Африке, Латинской Америке, Индии и Иране (ровно в тех регионах, что отмечены в вышеуказанном определении). «Теория с Юга» Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011) сосредотачивается на Африке, а «Новые географии теории» Ананьи Рой (Roy, 2009) — на Индии.
Отсутствие Востока в проекте Глобального Юга поражает, хоть это и не удивительно. Опять же, это связано с его промежуточным социальным, экономическим, политическим статусом. Джин и Джон Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011:46) задаются вопросом: «К какой стороне [Севера или Юга] относятся страны бывшего СССР?» Общества бывшего Второго мира не пытались найти третий путь, отказавшись от капитализма и социализма; не устраивали дебатов об общем будущем вроде тех, что проводились на Бандунгской конференции. Когда из-за событий 1989-1992 гг. пал социалистический лагерь, казалось, что Восток, перейдя к капитализму, присоединится к Северу. Тем не менее прошло больше 25 лет, и переход не завершен — как в вопросах достижения уровня благосостояния по примеру Севера, так и в вопросах возведения институтов рыночного капитализма. Восток оказался гибридом социалистического наследия, неолиберального капитализма, а также неформальных и патримониальных практик.
Востоку так же свойственен колониализм, пусть и отличный от южного. Колониализм — особенно значимая для теоретизирования, возможно, самая главная черта Юга (Dirlik, 2007) — не столь очевиден в странах Востока. Многим странам Востока доводилось сталкиваться с последовательно наступавшими волнами колониализма со стороны Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, а также Советского Союза; и каждую из них отличала своя система господства. Навязанные Западом рыночные реформы 90-х годов XX века (Boycko, Shleifer, Vishny, 1995) добавили новые отношения доминирования к уже существующим.
Если колонизированный определяется через соотнесение с колонизатором (Fanon, 1952), то у Востока множество идентичностей. Некоторые страны были одновременно и колонизаторами, и колонизируемыми. Мадина Тлостанова (Тlоstanova, 2008, 2011) проблематизирует эту промежуточную позицию на примере России, которой отведена двойственная роль колониальной империи (как в советские времена, так и после падения Советского Союза) и подчиненного Другого (для Европы) — и потому она называет Россию «субалтерн-империей». Получается, что Восток занимает непростое положение между центрами власти на Севере и в основном постколониальными обществами Юга. Так, в случае Востока отношения «колонизатор/колонизируемый» становятся многоуровневыми, без ярко выраженной метрополии. Если вы из Болгарии, что считать вашей метрополией: Стамбул, Москву, Брюссель или Нью-Йорк?
Наконец, в отличие от Юга, люди не нашли на Востоке причин для сочувствия, глобального активистского движения, источника альтернатив неолиберализму, разрушению окружающей среды, политике с позиции силы и разнузданному национализму. Бывший центр рейгановской «империи зла» не может выступать с безупречной моральной позиции угнетенных и обездоленных, на которой уверенно стоит Глобальный Юг. Для такой позиции недостаточно Евромайдана, Оранжевой революции и Революции роз и тюльпанов. Миру голодных и рабов, сражающемуся за эмансипацию и право на самоопределение, как будто нет места на Востоке. Многие обитатели Глобального Востока — белые, они же — агенты и жертвы расизма (к примеру, польские иммигранты в Британии) (Nowicka, 2017). «Русские и восточные европейцы после 1989 года стали не вполне отбеленными черными (off-white blacks) нового глобального мира — ведущими себя и выглядящими подобно белым, но остающимися сущностно иными» (Tlostanova, 2017: 8). Кэтрин Вердери (Verdery, 2002: 20) однажды блистательно сформулировала тезис: неясно, кто будет Францем Фаноном постсоциалистического Востока. Трудный вопрос, на который я бы ответил так: на Востоке не может быть Фанона. В конце концов, к кому он/a мог/ла бы обратиться и по какому праву?
Так что у Востока низкий статус, но недостаточно низкий. Он некоторым образом подчиненный (subaltern), но не вполне. Он не богат, но в то же время и не беден. У него есть какие-то элементы европейской модерности, но многих недостает: слишком другой, чтобы быть частью Севера, слишком европейский, чтобы стать частью Юга. Большинство обществ Восточной Европы и бывшего Советского Союза заперты в этом промежуточном положении не вполне Севера и не вполне Юга. Они могут быть членами Евросоюза и отличаться высоким доходом, но все равно — не входить в клуб. Посмотрите на Польшу. Или, наоборот, они могут быть бедными бывшими колониями, как, например, Таджикистан или русский Кавказ, но их все равно не будут считать частью Юга. В лучшем случае они довольствуются положением «Вторичного Юга» (Tlostanova, 2011). И попытки установить диалог между Югом и Глобальным Востоком: например, между колониями Советской России и Глобальным Югом, — редки, малы и разрознены (Chari, Verdery, 2009; Karkov, 2015; Tlostanova, 2011, 2015b).
Эта лиминальность выносит Восток за скобки споров о Глобальных Юге и Западе. Выносит не из желания навредить, просто Восток не входит в рамку, которую мы используем для разговоров о глобальном. Эта промежуточность не превращает Восток в то, что Хоми Баба (Ноші Bhabha, 1994) определял как плодородное третье место, пространство обмена для культур и значений. Наоборот, Восток словно застыл в оцепенении, в то время как весь остальной мир двинулся вперед и опутал себя сетью глобальных связей и мобильностей. У Микановского мы читаем:
В этом смысле Восток во многом проживает постколониальное состояние пребывания в «зале ожидания истории» (Chakrabarty, 2007: 8), стремясь к модерности, в которую можно включиться, но доступ к которой может гарантировать лишь щедрость и добродетельность Европы, расширяющей свою mission civilisatrice и все связанные с ней практики до «Дикого Востока» (Gille, 2016; Horvat, Stiks, 2012; Melegh, 2006). Поскольку, если бы даже Востоку и удалось очутиться в Европе, он оказался бы в ситуации, в которой «всё [уже] предопределено, продумано, продемонстрировано, доведено до максимума» — позволим себе процитировать знаменитую фразу Франца Фанона (Fanon, 2008: 91). Восток скрепляют не политическое единство, не общие экономические связи или культурные традиции (Наші et al, 2016) и уже не общий опыт социализма (Muller, 2019), а совместное чувство одновременного различия и сходства с аморфной Европой.
Конечно, если более интересен политэкономический подход, Восток можно прочитать и через трехуровневую теорию мир-системного анализа капитализма, предложенную Иммануилом Валлерстайном (Wallerstein, 1979) - Но это несколько запутает ситуацию. Согласно Валлерстайну (Wallerstein, 1976), социалистические государства принадлежали к странам полупериферии, но общая картина несколько изменилась, стоило социализму рухнуть. Сегодня некоторые государства Центральной Азии, Южного Кавказа и Юго-Восточной Европы могут считаться периферийными, в то время как большинство восточноевропейских стран, ныне входящих в Европейский союз, переживают экономический рост и все ближе смещаются к центру. По крайней мере, такое наблюдение предлагается в нескольких источниках, пытавшихся применить категории Валлерстайна к современной ситуации (Babones, Babcicky, 2011; Bradshaw, 2001; Knox, Agnew, McCarthy, 2014: 22). К примеру, Румыния или Россия, остающиеся в положении полупериферии, оказываются в той же категории, что и, например, Греция, Чили, Ботсвана и Вьетнам, — категория прежняя, но достаточно гетерогенная. Таким образом, мир-системный анализ представляет расщепленный образ Востока: частично Север, частично Юг и частично — что-то между.
Несмотря на то что Восток, этот наполовину Другой (demi-Other) Запада, оказывается в положении, подобном постколониальной ситуации Юга, он исключен из борьбы Юга за эмансипацию. Восток в равной степени не вполне Север и не вполне Юг. В стремлении к деколониальному знанию и теоретическому осмыслению Юга Восток не фигурирует; и дело не в том, что его просто присоединили к Латинской Америке, Азии и Африке. Нет, его попросту не включили в этот проект. И это вряд ли удивит нас, если мы обратимся к типичному определению Севера и Юга: «Оппозиция Севера и Юга обычно рассматривается как социоэкономическое и политическое разделение. Определения Глобального Севера обычно включают Соединенные Штаты, Канаду, развитые страны Европы и Восточную Азию. Глобальный Юг образуют Африка, Латинская Америка, а также развивающиеся страны Азии, включая Средний Восток» (цит. по: Mignolo, 2014а).
Это определение обходит стороной Глобальный Восток. Его же обходят и теоретические разработки с позиций Юга. Знаковая книга социолога Рэйвин Коннелл «Южная теория» (Raewyn Connell, 2007) размещает Юг в Африке, Латинской Америке, Индии и Иране (ровно в тех регионах, что отмечены в вышеуказанном определении). «Теория с Юга» Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011) сосредотачивается на Африке, а «Новые географии теории» Ананьи Рой (Roy, 2009) — на Индии.
Отсутствие Востока в проекте Глобального Юга поражает, хоть это и не удивительно. Опять же, это связано с его промежуточным социальным, экономическим, политическим статусом. Джин и Джон Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011:46) задаются вопросом: «К какой стороне [Севера или Юга] относятся страны бывшего СССР?» Общества бывшего Второго мира не пытались найти третий путь, отказавшись от капитализма и социализма; не устраивали дебатов об общем будущем вроде тех, что проводились на Бандунгской конференции. Когда из-за событий 1989-1992 гг. пал социалистический лагерь, казалось, что Восток, перейдя к капитализму, присоединится к Северу. Тем не менее прошло больше 25 лет, и переход не завершен — как в вопросах достижения уровня благосостояния по примеру Севера, так и в вопросах возведения институтов рыночного капитализма. Восток оказался гибридом социалистического наследия, неолиберального капитализма, а также неформальных и патримониальных практик.
Востоку так же свойственен колониализм, пусть и отличный от южного. Колониализм — особенно значимая для теоретизирования, возможно, самая главная черта Юга (Dirlik, 2007) — не столь очевиден в странах Востока. Многим странам Востока доводилось сталкиваться с последовательно наступавшими волнами колониализма со стороны Османской, Австро-Венгерской и Российской империй, а также Советского Союза; и каждую из них отличала своя система господства. Навязанные Западом рыночные реформы 90-х годов XX века (Boycko, Shleifer, Vishny, 1995) добавили новые отношения доминирования к уже существующим.
Если колонизированный определяется через соотнесение с колонизатором (Fanon, 1952), то у Востока множество идентичностей. Некоторые страны были одновременно и колонизаторами, и колонизируемыми. Мадина Тлостанова (Тlоstanova, 2008, 2011) проблематизирует эту промежуточную позицию на примере России, которой отведена двойственная роль колониальной империи (как в советские времена, так и после падения Советского Союза) и подчиненного Другого (для Европы) — и потому она называет Россию «субалтерн-империей». Получается, что Восток занимает непростое положение между центрами власти на Севере и в основном постколониальными обществами Юга. Так, в случае Востока отношения «колонизатор/колонизируемый» становятся многоуровневыми, без ярко выраженной метрополии. Если вы из Болгарии, что считать вашей метрополией: Стамбул, Москву, Брюссель или Нью-Йорк?
Наконец, в отличие от Юга, люди не нашли на Востоке причин для сочувствия, глобального активистского движения, источника альтернатив неолиберализму, разрушению окружающей среды, политике с позиции силы и разнузданному национализму. Бывший центр рейгановской «империи зла» не может выступать с безупречной моральной позиции угнетенных и обездоленных, на которой уверенно стоит Глобальный Юг. Для такой позиции недостаточно Евромайдана, Оранжевой революции и Революции роз и тюльпанов. Миру голодных и рабов, сражающемуся за эмансипацию и право на самоопределение, как будто нет места на Востоке. Многие обитатели Глобального Востока — белые, они же — агенты и жертвы расизма (к примеру, польские иммигранты в Британии) (Nowicka, 2017). «Русские и восточные европейцы после 1989 года стали не вполне отбеленными черными (off-white blacks) нового глобального мира — ведущими себя и выглядящими подобно белым, но остающимися сущностно иными» (Tlostanova, 2017: 8). Кэтрин Вердери (Verdery, 2002: 20) однажды блистательно сформулировала тезис: неясно, кто будет Францем Фаноном постсоциалистического Востока. Трудный вопрос, на который я бы ответил так: на Востоке не может быть Фанона. В конце концов, к кому он/a мог/ла бы обратиться и по какому праву?
Так что у Востока низкий статус, но недостаточно низкий. Он некоторым образом подчиненный (subaltern), но не вполне. Он не богат, но в то же время и не беден. У него есть какие-то элементы европейской модерности, но многих недостает: слишком другой, чтобы быть частью Севера, слишком европейский, чтобы стать частью Юга. Большинство обществ Восточной Европы и бывшего Советского Союза заперты в этом промежуточном положении не вполне Севера и не вполне Юга. Они могут быть членами Евросоюза и отличаться высоким доходом, но все равно — не входить в клуб. Посмотрите на Польшу. Или, наоборот, они могут быть бедными бывшими колониями, как, например, Таджикистан или русский Кавказ, но их все равно не будут считать частью Юга. В лучшем случае они довольствуются положением «Вторичного Юга» (Tlostanova, 2011). И попытки установить диалог между Югом и Глобальным Востоком: например, между колониями Советской России и Глобальным Югом, — редки, малы и разрознены (Chari, Verdery, 2009; Karkov, 2015; Tlostanova, 2011, 2015b).
Эта лиминальность выносит Восток за скобки споров о Глобальных Юге и Западе. Выносит не из желания навредить, просто Восток не входит в рамку, которую мы используем для разговоров о глобальном. Эта промежуточность не превращает Восток в то, что Хоми Баба (Ноші Bhabha, 1994) определял как плодородное третье место, пространство обмена для культур и значений. Наоборот, Восток словно застыл в оцепенении, в то время как весь остальной мир двинулся вперед и опутал себя сетью глобальных связей и мобильностей. У Микановского мы читаем:
“
Много раз я проваливался в зоны восточно-европейскости к западу от линии Одер — Триест. Они настигали меня под шоссейными эстакадами, в очередях в департаменте транспорта в США, и в залах ожидания полузабытых автовокзалов. Я всегда полагал, что прустовские моменты — насквозь фальшивый конструкт, литературная уловка, но будь я проклят, если случайно учуянный запах застаревшей грязи в туалете, в подвале одной из физических лабораторий Беркли, не переносил меня в одну секунду на лестницу многоэтажного варшавского дома, в котором жила моя бабушка, не пробуждал отзвук этого запаха, в котором смешиваются застарелая моча, засохшая грязь и закисшая вода со швабры, неподслащенная мылом.
В этом отрывке Микановский схватывает «восточность» как чувство заброшенности, оторванности от мира. Проезды под эстакадами, залы ожидания на заброшенных автовокзалах, подвалы — глобальность происходит явно в других местах. Восточность — состояние инертности, выпадения из времени и пространства.
Это состояние застревания во времени обнаруживается в том, как мы отсылаем к географии современного Востока, всегда подчеркивая прошлое: постсоциалистическое, экс-советская, территория бывшего СССР, старый Восточный блок, бывший Второй мир, — словно спустя почти тридцать лет коммунистический Восток все еще не нашел лазейки, через которую смог бы пробраться в настоящее. К советскому опыту обращаются недавние бестселлеры — работа «Время сэконд- хенд» Светланы Алексиевич, получившей Нобелевскую премию по литературе, или же «Хоть словечко пошли мне» (Just Send Me a Word) Орландо Файджеса. Бестселлеры, посвященные сегодняшнему дню, сосредоточены на предрекаемой новой холодной войне. Один из ключевых академических журналов о Востоке описывает себя как издание, «сосредоточенное на истории, а также современных политических, социальных и экономических вопросах стран бывшего «коммунистического блока» (Europe-Asia Studies, 2018).
Не включенный ни в Север, ни в Юг, погруженный в застой, Восток вообще исчез из «глобального». Попробуйте в дебатах о, скажем, глобальном урбанизме, глобальном бизнесе или глобальных мобильностях найти значимое место для Востока. Дело не в том, что Восток мало упоминают, хотя и это утверждение справедливо. Скорее, о Востоке и не думают как о включенном в глобальные связи (Rogers, 2010). Он не участвует в «глобальном» — глобальном потоке образов и идей, людей и стратегий. Если «Восток» существует, то не заслуживает определения «Глобальный». И можно извинить исследователя, готового поверить, что железный занавес никогда не падал.
Это состояние застревания во времени обнаруживается в том, как мы отсылаем к географии современного Востока, всегда подчеркивая прошлое: постсоциалистическое, экс-советская, территория бывшего СССР, старый Восточный блок, бывший Второй мир, — словно спустя почти тридцать лет коммунистический Восток все еще не нашел лазейки, через которую смог бы пробраться в настоящее. К советскому опыту обращаются недавние бестселлеры — работа «Время сэконд- хенд» Светланы Алексиевич, получившей Нобелевскую премию по литературе, или же «Хоть словечко пошли мне» (Just Send Me a Word) Орландо Файджеса. Бестселлеры, посвященные сегодняшнему дню, сосредоточены на предрекаемой новой холодной войне. Один из ключевых академических журналов о Востоке описывает себя как издание, «сосредоточенное на истории, а также современных политических, социальных и экономических вопросах стран бывшего «коммунистического блока» (Europe-Asia Studies, 2018).
Не включенный ни в Север, ни в Юг, погруженный в застой, Восток вообще исчез из «глобального». Попробуйте в дебатах о, скажем, глобальном урбанизме, глобальном бизнесе или глобальных мобильностях найти значимое место для Востока. Дело не в том, что Восток мало упоминают, хотя и это утверждение справедливо. Скорее, о Востоке и не думают как о включенном в глобальные связи (Rogers, 2010). Он не участвует в «глобальном» — глобальном потоке образов и идей, людей и стратегий. Если «Восток» существует, то не заслуживает определения «Глобальный». И можно извинить исследователя, готового поверить, что железный занавес никогда не падал.
За пределами западной архитектуры знания
Но железного занавеса больше нет. Уверенное возвращение Востока давно назрело, и не только для того, чтобы нарушить бинарность Севера и Юга. Требование права Востока на голос в академических дебатах может оспорить противодействовать или, по крайней мере, бросить вызов доминирующим культурным схемам производства знаний (Buchowski, 2004; Timar, 2004) и параллельно осуществляемым попыткам самоизоляции Востока (Funk, 2017). Оно может переустроить полушарную «геополитику знания» (Mignolo, 2002), так удобно разбитую на Север и Юг.
Частью политического импульса по переоткрытию Востока является желание вернуть его великое разнообразие, столь часто списываемое со счетов и редуцируемое до карикатурного, монотонного «сумрачного места». Разнообразие не только этническое (хотя и оно тоже), но политическое, культурное и экономическое, — придавленное гомогенизирующим ярлыком «бывшего Восточного блока», которым так любят пользоваться новостные комментаторы. Разнообразие, протягивающееся от Эстонии, образчика внедрения европейских реформ, через диктатуру Беларуси к глобальным амбициям Казахстана. От бывшего имперского ядра России через раздираемую конфликтами Украину к центробежным перифериям Словении. Это разнообразие и его воздействие на жизни людей, пожалуй, лучше всего схвачено в шутке про старика, рассказывающего, как он родился в Габсбургской монархии, пошел в школу в Чехословакии, женился в Венгрии, большую часть жизни проработал в Советском Союзе, а на пенсию вышел в Украине. «Много путешествовали, да?» — спрашивает собеседник. «Нет, я никогда не покидал Мукачево».
На карту здесь поставлено и нечто большее. Восток не так просто встраивается в существующую архитектуру знания, созданную по преимуществу в англоговорящем мире (Tlostanova, 2015а). Западный колониализм не подарил Востоку общих с ним институций или семейных связей, английский язык не стал, преодолев километры, lingua franca, а последствия железного занавеса до сих пор затрудняют учреждение исследовательских коллабораций. Эмигранты-интеллектуалы и исследователи с Глобального Юга — Стюарт Холл, Гаятри Спивак, Эдвард Саид, Ахилл Мбембе, Эме Сезер — часто продолжали работу в колониальных центрах в Британии, Франции или США, встраиваясь в англо- или франкофонные цепочки производства знаний. Тем не менее когда исследователи с Востока отправлялись в центр Советской империи — Москву, а делали они это часто, им удавалось обратиться лишь к ограниченной аудитории. Стоило Советскому Союзу пасть, как интеллектуалы столкнулись с нарастающей лингвистической изоляцией и сужающимся доступом к глобальным возможностям. Рабочими языками начинающих интеллектуалов Востока были французский и немецкий, но не английский — язык рыночного капитализма. Это повлияло на то, как путешествуют знания с Востока и о Востоке. Ирония в том, что шансы Востока быть услышанным уменьшились ровно потому, что он находился за пределами влияния британского и французского колониализмов.
Есть и другая динамика, которую следует отметить: отсутствие голосов с Востока в глобальных дискуссиях — удар, нанесенный по исследованиям на Востоке падением социализма. Его последствия ощущаются и по сей день. Не то чтобы финансирование исчезло одним днем, однако ученые оказались в ситуации, в которой радикально изменилось само представление о том, что такое хороший исследователь. Многие, надеясь выжить, были вынуждены оставить академическую карьеру и свою родину. Оставшимся пришлось (а некоторым приходится и сейчас) работать на стороне. Эта проблема особенно актуальна для гуманитарных дисциплин и социальных наук — их часто упрекают в малой практической ценности. Академия не сулила будущего и не гарантировала достаточного заработка, потому в девяностые и нулевые так мало молодых исследователей смогло включиться в дискуссии. Вместо этого они отправились учиться и работать за рубеж (Ushkalov, Malakha, 2010). Потому неудивительно, что «снятие ограничений на публикации, как и само социальное преобразование Центральной и Восточной Европы, не привело к резкому росту местных аналитических работ, посвященных коммунистической и посткоммунистической реальностям» (Outhwaite, Ray, 2005:12). Да и что позволило бы этому резкому росту случиться? Падение социализма практически разрушило исследовательские центры Востока (прим.ред.: в т.ч. в падении и переориентации внутреннего интел. дискурса способствовали внешние заинтересанты), и лишь в последние годы ситуация стала меняться.
Частью политического импульса по переоткрытию Востока является желание вернуть его великое разнообразие, столь часто списываемое со счетов и редуцируемое до карикатурного, монотонного «сумрачного места». Разнообразие не только этническое (хотя и оно тоже), но политическое, культурное и экономическое, — придавленное гомогенизирующим ярлыком «бывшего Восточного блока», которым так любят пользоваться новостные комментаторы. Разнообразие, протягивающееся от Эстонии, образчика внедрения европейских реформ, через диктатуру Беларуси к глобальным амбициям Казахстана. От бывшего имперского ядра России через раздираемую конфликтами Украину к центробежным перифериям Словении. Это разнообразие и его воздействие на жизни людей, пожалуй, лучше всего схвачено в шутке про старика, рассказывающего, как он родился в Габсбургской монархии, пошел в школу в Чехословакии, женился в Венгрии, большую часть жизни проработал в Советском Союзе, а на пенсию вышел в Украине. «Много путешествовали, да?» — спрашивает собеседник. «Нет, я никогда не покидал Мукачево».
На карту здесь поставлено и нечто большее. Восток не так просто встраивается в существующую архитектуру знания, созданную по преимуществу в англоговорящем мире (Tlostanova, 2015а). Западный колониализм не подарил Востоку общих с ним институций или семейных связей, английский язык не стал, преодолев километры, lingua franca, а последствия железного занавеса до сих пор затрудняют учреждение исследовательских коллабораций. Эмигранты-интеллектуалы и исследователи с Глобального Юга — Стюарт Холл, Гаятри Спивак, Эдвард Саид, Ахилл Мбембе, Эме Сезер — часто продолжали работу в колониальных центрах в Британии, Франции или США, встраиваясь в англо- или франкофонные цепочки производства знаний. Тем не менее когда исследователи с Востока отправлялись в центр Советской империи — Москву, а делали они это часто, им удавалось обратиться лишь к ограниченной аудитории. Стоило Советскому Союзу пасть, как интеллектуалы столкнулись с нарастающей лингвистической изоляцией и сужающимся доступом к глобальным возможностям. Рабочими языками начинающих интеллектуалов Востока были французский и немецкий, но не английский — язык рыночного капитализма. Это повлияло на то, как путешествуют знания с Востока и о Востоке. Ирония в том, что шансы Востока быть услышанным уменьшились ровно потому, что он находился за пределами влияния британского и французского колониализмов.
Есть и другая динамика, которую следует отметить: отсутствие голосов с Востока в глобальных дискуссиях — удар, нанесенный по исследованиям на Востоке падением социализма. Его последствия ощущаются и по сей день. Не то чтобы финансирование исчезло одним днем, однако ученые оказались в ситуации, в которой радикально изменилось само представление о том, что такое хороший исследователь. Многие, надеясь выжить, были вынуждены оставить академическую карьеру и свою родину. Оставшимся пришлось (а некоторым приходится и сейчас) работать на стороне. Эта проблема особенно актуальна для гуманитарных дисциплин и социальных наук — их часто упрекают в малой практической ценности. Академия не сулила будущего и не гарантировала достаточного заработка, потому в девяностые и нулевые так мало молодых исследователей смогло включиться в дискуссии. Вместо этого они отправились учиться и работать за рубеж (Ushkalov, Malakha, 2010). Потому неудивительно, что «снятие ограничений на публикации, как и само социальное преобразование Центральной и Восточной Европы, не привело к резкому росту местных аналитических работ, посвященных коммунистической и посткоммунистической реальностям» (Outhwaite, Ray, 2005:12). Да и что позволило бы этому резкому росту случиться? Падение социализма практически разрушило исследовательские центры Востока (прим.ред.: в т.ч. в падении и переориентации внутреннего интел. дискурса способствовали внешние заинтересанты), и лишь в последние годы ситуация стала меняться.
Эти цепочки производства знаний, существующие в англо-американской академии, и произвели постсоциалистическую точку зрения — попытку осмыслить Восток после падения социализма (Наші, 2001). Исследователи на Востоке критиковали это понятие за то, что оно является «ориентализирующим концептом, позволившим западным антропологам сконструировать посткоммунистическую Европу» (Cervinkova, 2012:159).
Частое упоминание различий Севера и Юга не должно отвлекать от того, что тексты, наконец, указывают на отношения, не укладывающиеся в отношения Севера с Югом и размывающие границы (например: Caison, Vormann, 2015; Roy, Crane, 2015).
К стратегическому эссенциализму Востока
Принимая во внимание эти обстоятельства, мы видим нарастающую важность политического проекта по возвращению голоса Востоку. Я полагаю, что нам следует сохранить термин «Восток» и не следует стыдиться столкновения с его старыми коннотациями отсталости и инаковости. Такие термины, как «Новая Европа» или «Центральная Европа» (Garton Ash, 1999; Kundera, 1984), пытающиеся разорвать связь с Востоком, рискуют воспроизвести телеологический горизонт Европы и вновь впасть в евроцентризм. Согласно наблюдениям исследователей, эти термины лишь сдвигают границу «отсталого Востока» дальше, пытаясь поместить Другого где-то еще (Kuus, 2004; Melegh, 2006), вместо того, чтобы решительно с ним порвать. Также важно думать о Востоке — как и Севере, и Юге — не в строгих географических терминах, а как об онтологической и эпистемологической категории, чтобы не сводить его к узко ограниченному мировому региону.
Конечно, «Восток» — многозначное, пластичное понятие. В многообразие его употреблений входят самые разные пространства: от Восточной Европы и России до Японии и Китая, включая сюда то, что мы порой определяем как «Ближний Восток», к которому относится и Турция (Goody, 1996; Mahbubani, 2008; Mignolo, 2014b; Neumann, 1999; Said, 1978; Zarakol, 2011). Одной из устойчивых черт Востока остается роль Другого, необходимая Западу для последовательного самоутверждения. Аргумент этой статьи состоит в том, чтобы думать с позиции одного из многих Востоков: тех обществ бывшего Второго мира, которым довелось пережить лавинообразный обвал социализма между 1989-1992 годами. Но если «Восточность» — это базовое затруднение (predicament) полуинаковости, то понятие Глобального Востока не следует ограничивать этими обществами. В действительности оно должно вбирать в себя все общества, не входящие ни в Юг, ни в Север.
Пластичность служит добрую службу такому понятию, как «Глобальный Восток», поскольку вместо очерченных границ и фиксированных территорий она предлагает топологические связи и размытые зоны. Восток всегда где-то: когда я спрашиваю о нем во Франции, мне говорят, что Восток в Германии; когда спрашиваю в Германии, мне указывают на Восточную Германию; когда спрашиваю там, мне указывают на Польшу; в Польше говорят, что Восток в Украине... означаемые, привязанные к означающему «Восток», постоянно смещаются. Таким образом, «Восток» можно оценивать как плавающее означающее, не имеющее закрепленного означаемого. Означающее, больше сообщающее о его пользователе, нежели об обозначаемом им объекте. Эта особенность позволяет использовать предлагаемый термин для политического проекта по перевписыванию Востока. Согласно Лаклау (Laclau, 2005: ch. 5), плавающие означающие позволяют артикулировать политические требования, поскольку они же способны вобрать в себя множество значений (по словам Лаклау, они помещают политические требования в цепь эквивалентностей). Поскольку закрепленных значений у них нет, то таковые можно в них вписать.
Понятия вроде «Евразии» менее пластичны, инклюзивны, меньше указывают за пределы очерченных территорий — хотя именно они чаще всего используются для обозначения крупных частей бывшего Советского Союза (в частности, России и Центральной Азии) (Grant, 2012; Наші et al., 2016). Евразия по большей части территориальное понятие, обладающее при этом проблематичным значением, связанным с евразийской идеологией, пережившей короткий взлет популярности в сегодняшней России (Suslov, Bassin, 2016). Евразийство предложило моральное и псевдонаучное обоснование для продвижения имперской идеологии, которой в России пользуются силы националистических и экстремистских взглядов. Ларюэль подытоживает этот проблематичный аспект: «[Евразия] выражает, удобно и довольно интуитивно, историческое пространство России и ее „периферий", а также определенную, быстро развивающуюся геополитическую реальность... В странах, к которым относятся балтийские государства и Украина, обеспокоенно относятся к их изучению в рамках Департамента исследований Евразии» (Laruelle, 2016: 136). Смит и Ричардсон называют Евразию «мифом»: «Некогерентная путаница пространств... Мы обнаруживаем Евразию, в которой кишат мириады форм... характеризуемых несоответствиями и несогласованностью» (Smith, Richardson, 2017: 4-5).
Если мы дорожим ценностями многоголосия и противоречивости, тогда, возможно, нам следует думать о Востоке с точки зрения «стратегического эссенциализма» (Spivak, 1988b), представляющего собой политическую практику, способную мобилизовать разнородные маргинальные группы, собрать их под общим знаменем эмансипаторного политического проекта. Стратегические эссенциализмы на время отодвигают в сторону различия, чтобы артикулировать свои политические требования к дискурсу-гегемону. В таком контексте многие вещи могут стать «политическими»: право на признание; производство того, что можно определить как достоверное знание; свобода от дискриминации. Подобные стратегические эссенциализмы были важной тактикой для феминизма (Rose, 1993), постколониализма (Spivak, 1993), а не так давно они пригодились и для выступлений с требованиями в пользу Глобального Юга (Comaroff, Comaroff, 2011; Parnell, Robinson, 2012).
Случай Глобального Юга, также показывающий пример стратегического эссенциализма, здесь особенно показателен, поскольку выстроен вокруг маргинализированной, но совершенно гетерогенной категории. Он также включал в себя восстановление в правах патерналистского концепта. На самом деле, когда термин «Юг» (тогда еще без определения «глобальный») появился в дискуссиях 70-х годов XX века, он выступал лишь плохо замаскированным ярлыком для «развивающихся стран», чем указывал на патерналистскую ответственность Севера за исправление причиненных им несправедливостей и «спасение» бедного Юга. Оно было куда более реакционным по сравнению с понятием Третьего мира, ставшим политическим проектом Юга после Бандунгской конференции 1955 года (Dirlik, 2007; Prashad, 2013).
Недавний толчок к началу теории на Юге, толчок к смещению телоса модерна (обычно связываемого с Глобальным Севером) повторно артикулировал значение Юга (Chakrabarty, 2007; Comaroff, Comaroff, 2011; Robinson, 2006): Юг не только по праву может и должен быть источником новых теорий, но эти теоретические интуиции должны обращаться к теориям на Севере (Это же верно в отношении недавней попытки популяризации теории из Азии в «азиатском веке». См., например: Chen, 2010.).
Пожалуй, особенно ясно этот аргумент обозначен в работах Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011): они видят развитие Севера, с его нескончаемыми кризисами, нестабильностью и незащищенностью, жесткой экономией, социальными и этическими проблемами, — как движение в сторону Юга, поэтому они отдают Югу ведущую роль в теоретическом осмыслении этого нового состояния. «Так называемая «Новая норма» Севера способна лишь заново проигрывать недавнее прошлое Юга» (Comaroff, Comaroff, 2012:123). Север лишь играет в догонялки с Югом: какой освежающий способ поставить мир с ног на голову! Хотя аргумент Комарофф в основном строится на разрушительном глобальном правлении неолиберализма — правлении, которое представляется очень шатким в свете недавних националистических тенденций — направление его удара понятно: Югу есть что сказать, причем не только себе, но и Северу.
Движение Юга к эмансипации может стать моделью для Востока в его политическом рывке к деколонизации производства знания и в попытке вернуться на карту. Это возвращение на карту, впрочем, невозможно без размышления о Востоке как о части глобального проекта — как о Глобальном Востоке.
Конечно, «Восток» — многозначное, пластичное понятие. В многообразие его употреблений входят самые разные пространства: от Восточной Европы и России до Японии и Китая, включая сюда то, что мы порой определяем как «Ближний Восток», к которому относится и Турция (Goody, 1996; Mahbubani, 2008; Mignolo, 2014b; Neumann, 1999; Said, 1978; Zarakol, 2011). Одной из устойчивых черт Востока остается роль Другого, необходимая Западу для последовательного самоутверждения. Аргумент этой статьи состоит в том, чтобы думать с позиции одного из многих Востоков: тех обществ бывшего Второго мира, которым довелось пережить лавинообразный обвал социализма между 1989-1992 годами. Но если «Восточность» — это базовое затруднение (predicament) полуинаковости, то понятие Глобального Востока не следует ограничивать этими обществами. В действительности оно должно вбирать в себя все общества, не входящие ни в Юг, ни в Север.
Пластичность служит добрую службу такому понятию, как «Глобальный Восток», поскольку вместо очерченных границ и фиксированных территорий она предлагает топологические связи и размытые зоны. Восток всегда где-то: когда я спрашиваю о нем во Франции, мне говорят, что Восток в Германии; когда спрашиваю в Германии, мне указывают на Восточную Германию; когда спрашиваю там, мне указывают на Польшу; в Польше говорят, что Восток в Украине... означаемые, привязанные к означающему «Восток», постоянно смещаются. Таким образом, «Восток» можно оценивать как плавающее означающее, не имеющее закрепленного означаемого. Означающее, больше сообщающее о его пользователе, нежели об обозначаемом им объекте. Эта особенность позволяет использовать предлагаемый термин для политического проекта по перевписыванию Востока. Согласно Лаклау (Laclau, 2005: ch. 5), плавающие означающие позволяют артикулировать политические требования, поскольку они же способны вобрать в себя множество значений (по словам Лаклау, они помещают политические требования в цепь эквивалентностей). Поскольку закрепленных значений у них нет, то таковые можно в них вписать.
Понятия вроде «Евразии» менее пластичны, инклюзивны, меньше указывают за пределы очерченных территорий — хотя именно они чаще всего используются для обозначения крупных частей бывшего Советского Союза (в частности, России и Центральной Азии) (Grant, 2012; Наші et al., 2016). Евразия по большей части территориальное понятие, обладающее при этом проблематичным значением, связанным с евразийской идеологией, пережившей короткий взлет популярности в сегодняшней России (Suslov, Bassin, 2016). Евразийство предложило моральное и псевдонаучное обоснование для продвижения имперской идеологии, которой в России пользуются силы националистических и экстремистских взглядов. Ларюэль подытоживает этот проблематичный аспект: «[Евразия] выражает, удобно и довольно интуитивно, историческое пространство России и ее „периферий", а также определенную, быстро развивающуюся геополитическую реальность... В странах, к которым относятся балтийские государства и Украина, обеспокоенно относятся к их изучению в рамках Департамента исследований Евразии» (Laruelle, 2016: 136). Смит и Ричардсон называют Евразию «мифом»: «Некогерентная путаница пространств... Мы обнаруживаем Евразию, в которой кишат мириады форм... характеризуемых несоответствиями и несогласованностью» (Smith, Richardson, 2017: 4-5).
Если мы дорожим ценностями многоголосия и противоречивости, тогда, возможно, нам следует думать о Востоке с точки зрения «стратегического эссенциализма» (Spivak, 1988b), представляющего собой политическую практику, способную мобилизовать разнородные маргинальные группы, собрать их под общим знаменем эмансипаторного политического проекта. Стратегические эссенциализмы на время отодвигают в сторону различия, чтобы артикулировать свои политические требования к дискурсу-гегемону. В таком контексте многие вещи могут стать «политическими»: право на признание; производство того, что можно определить как достоверное знание; свобода от дискриминации. Подобные стратегические эссенциализмы были важной тактикой для феминизма (Rose, 1993), постколониализма (Spivak, 1993), а не так давно они пригодились и для выступлений с требованиями в пользу Глобального Юга (Comaroff, Comaroff, 2011; Parnell, Robinson, 2012).
Случай Глобального Юга, также показывающий пример стратегического эссенциализма, здесь особенно показателен, поскольку выстроен вокруг маргинализированной, но совершенно гетерогенной категории. Он также включал в себя восстановление в правах патерналистского концепта. На самом деле, когда термин «Юг» (тогда еще без определения «глобальный») появился в дискуссиях 70-х годов XX века, он выступал лишь плохо замаскированным ярлыком для «развивающихся стран», чем указывал на патерналистскую ответственность Севера за исправление причиненных им несправедливостей и «спасение» бедного Юга. Оно было куда более реакционным по сравнению с понятием Третьего мира, ставшим политическим проектом Юга после Бандунгской конференции 1955 года (Dirlik, 2007; Prashad, 2013).
Недавний толчок к началу теории на Юге, толчок к смещению телоса модерна (обычно связываемого с Глобальным Севером) повторно артикулировал значение Юга (Chakrabarty, 2007; Comaroff, Comaroff, 2011; Robinson, 2006): Юг не только по праву может и должен быть источником новых теорий, но эти теоретические интуиции должны обращаться к теориям на Севере (Это же верно в отношении недавней попытки популяризации теории из Азии в «азиатском веке». См., например: Chen, 2010.).
Пожалуй, особенно ясно этот аргумент обозначен в работах Джин и Джона Комарофф (Comaroff, Comaroff, 2011): они видят развитие Севера, с его нескончаемыми кризисами, нестабильностью и незащищенностью, жесткой экономией, социальными и этическими проблемами, — как движение в сторону Юга, поэтому они отдают Югу ведущую роль в теоретическом осмыслении этого нового состояния. «Так называемая «Новая норма» Севера способна лишь заново проигрывать недавнее прошлое Юга» (Comaroff, Comaroff, 2012:123). Север лишь играет в догонялки с Югом: какой освежающий способ поставить мир с ног на голову! Хотя аргумент Комарофф в основном строится на разрушительном глобальном правлении неолиберализма — правлении, которое представляется очень шатким в свете недавних националистических тенденций — направление его удара понятно: Югу есть что сказать, причем не только себе, но и Северу.
Движение Юга к эмансипации может стать моделью для Востока в его политическом рывке к деколонизации производства знания и в попытке вернуться на карту. Это возвращение на карту, впрочем, невозможно без размышления о Востоке как о части глобального проекта — как о Глобальном Востоке.
Глобальный Восток: по пути граненого питьевого стакана
Давайте попробуем подумать о Глобальном Востоке иначе и на время перестанем представлять его как нечто, отрезанное от мира, застывшее в пространстве и времени. Давайте посмотрим на Глобальный Восток через граненый питьевой стакан (рис. і), один из основных товаров компании IKEA. Этот стакан вездесущ, его можно найти где угодно. Он стоит на столах и у президентов и у студентов. Он стоит на столе рядом со мной. Полагаю, что вам тоже доводилось из него пить. У меня нет под рукой официальной статистики, но, обращаясь к собственным наблюдениям за шкафами людей в разных точках по всему миру, предположу, что общие продажи этого стакана достигли нескольких миллиардов экземпляров. Неудивительно, что при цене за единицу меньше 70 центов этот стакан конкурентно представлен на рынке и сопротивляется любой — осознанной и случайной — попытке его уничтожить. И пусть большинство из нас думает, что это продукт, созданный IKEA, сама его форма суть воплощение Востока, ставшего глобальным. Дизайн IKEA не скрывает, что получившаяся форма вдохновлена классикой советского дизайна — граненым стаканом работы Веры Мухиной, являющимся иконой советской стеклянной утвари по меньшей мере с 1943 года (Idov, 2011: 78).
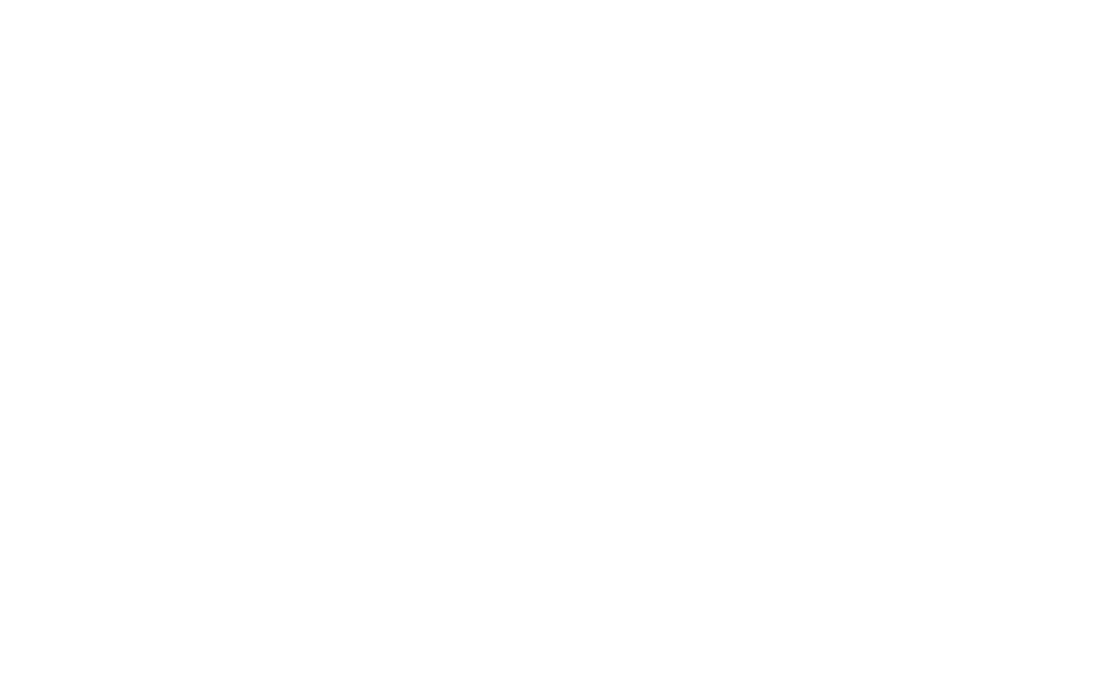
Конечно, можно поддаться искушению увидеть в этом стакане один пример «банального космополитизма потребительской культуры» (Featherstone, 2006: 390) и поглощения местного знания глобальными корпорациями. Но этот сюжет не так уж и прост. Во-первых, граненый стакан пережил свою первую «историю успеха» на Востоке: после Второй мировой там ежегодно производилось от пяти до шести тысяч миллионов стаканов (Idov, 2011: 80). Так что стакан следует определить как глобальный потребительский продукт, созданный на Востоке и скопированный на Западе. Это — редкий пример переворачивания привычных правил; редкий для мира, в котором дизайн — прерогатива творческих центров Глобального Севера, что отлично схвачено в вездесущем «Разработано в Калифорнии, собрано в Китае» на продуктах Apple.
Но со стаканом связана и производственная история. Большинство стеклянных изделий IKEA производится на Глобальном Востоке. Низкие расходы на производство (в первую очередь — на энергообеспечение) и опыт производства стекла — основа конкурентоспособности. Долгое время IKEA производила свой бестселлер — стакан Pokal (рис. 2) — в России, а потом перевела производство в Болгарию; вероятно, из-за низких производственных расходов на совмещенных с членством Болгарии в Евросоюзе, упрощающим экспорт.
История стакана — это история о промежуточном положении, которое Глобальный Восток занимает на обеих позициях, позиции производителя и потребителя внутри глобальных процессов. «Разработано на Глобальном Востоке, произведено на Глобальном Востоке» — эта формула отражает двойственность положения Глобального Востока в условиях глобализации. Но она также отражает другой важный тезис: Восток вплетен в глобальные отношения. Он связан с миром, а не изъят из него. Это кажется очевидным, но Восток, как мы увидели, часто воспринимают совсем по-другому — как нечто, выпавшее из течения времени и лишившееся своей точки в пространстве.
Но со стаканом связана и производственная история. Большинство стеклянных изделий IKEA производится на Глобальном Востоке. Низкие расходы на производство (в первую очередь — на энергообеспечение) и опыт производства стекла — основа конкурентоспособности. Долгое время IKEA производила свой бестселлер — стакан Pokal (рис. 2) — в России, а потом перевела производство в Болгарию; вероятно, из-за низких производственных расходов на совмещенных с членством Болгарии в Евросоюзе, упрощающим экспорт.
История стакана — это история о промежуточном положении, которое Глобальный Восток занимает на обеих позициях, позиции производителя и потребителя внутри глобальных процессов. «Разработано на Глобальном Востоке, произведено на Глобальном Востоке» — эта формула отражает двойственность положения Глобального Востока в условиях глобализации. Но она также отражает другой важный тезис: Восток вплетен в глобальные отношения. Он связан с миром, а не изъят из него. Это кажется очевидным, но Восток, как мы увидели, часто воспринимают совсем по-другому — как нечто, выпавшее из течения времени и лишившееся своей точки в пространстве.
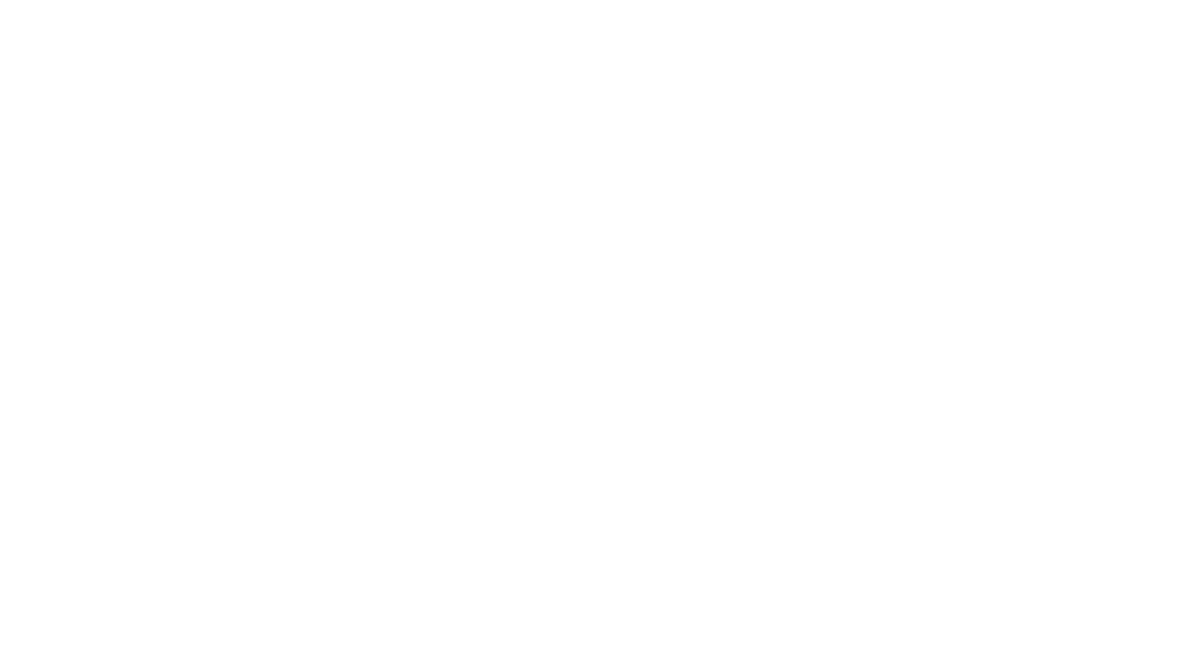
Восприятие Глобального Востока как реляционного понятия предполагает наличие Востока как понятия топологического (Shields, 2012; о Востоке особенно: Rogers, 2010; Tuvikene, 2016), согласно которому любое место на карте, встроенное в соответствующие отношения, можно отнести к Востоку. Материальное присутствие икеевского стакана прямо на моем столе связывает меня с Глобальным Востоком; ту же операцию выполняет и томик «Made in Russia», лежащий неподалеку. Другими словами, вызов Глобального Востока — размышление в топологическом стиле: призыв думать об отношениях, сближающих отделенное, скрепляющих несоединимое (Mol, Law, 1994)- Глобальный Восток — как отношение — может быть где угодно. Соответственно, вопрос «где Глобальный Восток?» — поставлен неправильно, поскольку вынуждает нас вновь обращаться к территориям. Нам следует спрашивать: «Что такое Глобальный Восток?», обращаясь к отношениям.
Соответственно, смысл реляционного представления о Востоке ровно в том, чтобы не ограничивать его территорией бывшего Второго мира. Советский писатель Илья Эренбург, назвав Берлин мачехой русских городов, указал на транслокальные отношения Востока. Эренбург был одним из сотен тысяч русских эмигрантов, обретших в Берлине эрзац-дом после Октябрьской революции. Выражаясь словами Карла Шлёгеля, они сделали его своей суррогатной столицей (Erzatzhauptstadt) (Schlogel, 2007). Но нам не нужно отправляться в берлинский Шарлоттенград на сто лет назад, чтобы повсюду обнаружить Глобальный Восток, явленый в русскоговорящих сообществах нью-йоркской Маленькой Одессы (Miyares, 1998), в кипрском Лимасоле, в восточноевропейских сообществах Лондона (Neumann, 2015), в украинских транснациональных христианских общинах евангелистов (Wanner, 2007). Он же присутствует и в российском вмешательстве в выборы в США, в «мобильных матерях», перемещающихся между Молдовой и Стамбулом (Keough, 2016), в связях между олигархическими режимами Центральной Азии и Персидского залива (Koch, 2016), в глобальном продвижении Грузии в качестве образчика постсоветских реформ (Schueth, 2011) — и в истории потребительских продуктов — таких как граненый стакан.
По-своему самой интересной частью Востока оказывается, пожалуй, не его ядро, но его расширения и торговые зоны. Следуя за этими расширениями, можно открыть новые линии для сравнения стран, феноменов и пространств, которые многие сочли бы слишком различными, однако их сравнение — ровно в силу этой различности — может приводить к полезным открытиям. Сравнение неопатримониальных гарнизонных государств в США и России, модернистской застройки Ташкента и Бразилиа, христианских общин Украины и Нигерии заключает в себе важную эпистемологическую функцию: оно учреждает Восток не в положении фундаментально отличающегося и не позволяет экзотизировать его, превратив в Другого. Оно децентрирует Запад и его претензии на производство универсального знания (Robinson, 2016; Sidaway, 2013).
Внимательное рассмотрение отношений обнаруживает сближение понятия Глобального Востока с третьей волной региональных исследований, сформировавшейся за счет обращения к инструментам социальной и культурной теорий, а также погруженности в процессы глобализации, связывания и мобильностей (Middell, 2013; Mielke, Hornidge, 2016; Sidaway et al., 2016). Эта третья волна, занимающая рефлексивную позицию, критически оценивает прошлые описания регионов как замкнутых сущностей. С тех же позиций она рассматривает и колониальное изготовление знаний о регионах из центра, стремясь продвинуть анализ глобальных связей и децентрацию производства знания. Она движется по неровному и опасному пути, балансируя между полным отказом от локальной экспертизы в пользу неукорененных глобальных исследований (Koch, 2016: 650) и овеществлением регионов в качестве самодостаточных сущностей (van Schendel, 2002). Для Глобального Востока важно следующее понимание: знание из мест (knowledge from places) сохраняет свою важность, хотя его и не нужно больше соотносить с конкретным районом, выполняющим функцию эпистемологической рамки. Другими словами, место действия имеет значение, но не ограничивается им одним. Места могут создавать аффорданс, особую возможность действия, которая может актуализироваться, но это вовсе не обязательно. По словам Чари (Chari, 2016: 792), нам следует посвятить себя «бытию-с в мире, где одновременно существуют взаимосвязанность и онтологическое различие». Это призывает нас культивировать Глобальный Восток через глобальное ощущение места: не самозамкнутый и защищающийся, но смотрящий вовне и сохраняющий то, что составляет его уникальность (Massey, 1991).
Соответственно, смысл реляционного представления о Востоке ровно в том, чтобы не ограничивать его территорией бывшего Второго мира. Советский писатель Илья Эренбург, назвав Берлин мачехой русских городов, указал на транслокальные отношения Востока. Эренбург был одним из сотен тысяч русских эмигрантов, обретших в Берлине эрзац-дом после Октябрьской революции. Выражаясь словами Карла Шлёгеля, они сделали его своей суррогатной столицей (Erzatzhauptstadt) (Schlogel, 2007). Но нам не нужно отправляться в берлинский Шарлоттенград на сто лет назад, чтобы повсюду обнаружить Глобальный Восток, явленый в русскоговорящих сообществах нью-йоркской Маленькой Одессы (Miyares, 1998), в кипрском Лимасоле, в восточноевропейских сообществах Лондона (Neumann, 2015), в украинских транснациональных христианских общинах евангелистов (Wanner, 2007). Он же присутствует и в российском вмешательстве в выборы в США, в «мобильных матерях», перемещающихся между Молдовой и Стамбулом (Keough, 2016), в связях между олигархическими режимами Центральной Азии и Персидского залива (Koch, 2016), в глобальном продвижении Грузии в качестве образчика постсоветских реформ (Schueth, 2011) — и в истории потребительских продуктов — таких как граненый стакан.
По-своему самой интересной частью Востока оказывается, пожалуй, не его ядро, но его расширения и торговые зоны. Следуя за этими расширениями, можно открыть новые линии для сравнения стран, феноменов и пространств, которые многие сочли бы слишком различными, однако их сравнение — ровно в силу этой различности — может приводить к полезным открытиям. Сравнение неопатримониальных гарнизонных государств в США и России, модернистской застройки Ташкента и Бразилиа, христианских общин Украины и Нигерии заключает в себе важную эпистемологическую функцию: оно учреждает Восток не в положении фундаментально отличающегося и не позволяет экзотизировать его, превратив в Другого. Оно децентрирует Запад и его претензии на производство универсального знания (Robinson, 2016; Sidaway, 2013).
Внимательное рассмотрение отношений обнаруживает сближение понятия Глобального Востока с третьей волной региональных исследований, сформировавшейся за счет обращения к инструментам социальной и культурной теорий, а также погруженности в процессы глобализации, связывания и мобильностей (Middell, 2013; Mielke, Hornidge, 2016; Sidaway et al., 2016). Эта третья волна, занимающая рефлексивную позицию, критически оценивает прошлые описания регионов как замкнутых сущностей. С тех же позиций она рассматривает и колониальное изготовление знаний о регионах из центра, стремясь продвинуть анализ глобальных связей и децентрацию производства знания. Она движется по неровному и опасному пути, балансируя между полным отказом от локальной экспертизы в пользу неукорененных глобальных исследований (Koch, 2016: 650) и овеществлением регионов в качестве самодостаточных сущностей (van Schendel, 2002). Для Глобального Востока важно следующее понимание: знание из мест (knowledge from places) сохраняет свою важность, хотя его и не нужно больше соотносить с конкретным районом, выполняющим функцию эпистемологической рамки. Другими словами, место действия имеет значение, но не ограничивается им одним. Места могут создавать аффорданс, особую возможность действия, которая может актуализироваться, но это вовсе не обязательно. По словам Чари (Chari, 2016: 792), нам следует посвятить себя «бытию-с в мире, где одновременно существуют взаимосвязанность и онтологическое различие». Это призывает нас культивировать Глобальный Восток через глобальное ощущение места: не самозамкнутый и защищающийся, но смотрящий вовне и сохраняющий то, что составляет его уникальность (Massey, 1991).
Недавние тексты о Глобальном Севере и Юге подчеркивают эти топологические отношения Севера на Юге (см., например, закрытые охраняемые поселки) и Юга на Севере (например, бедность) (см.: Miraftab, 2009; Roy, Crane, 2015).
Заключение: теоретизируя вместе с Глобальным Востоком
Представления о мире, разделенном на Глобальный Север и Глобальный Юг, оставили Восток на своего рода нейтральной полосе. Его промежуточное положение: не вполне богат, не вполне беден; не только колонизируемый, но и не только колонизатор, — затрудняет категоризацию. Приклеив к нему ярлыки «отсталого» и «закрытого», академия и публичный дискурс приучились рассматривать Восток как нечто отделенное и отдаленное от мира, не способное предложить ему ничего значительного.
В рамках этой статьи мы попробовали определить Восток как Глобальный: восстановить его в праве на место в мире и в праве быть в нем услышанным. Это потребовало рассмотрения Востока с точки зрения стратегического эссенциализма, позволяющего переучредить его как постоянную зону исследовательских интересов и наполнить понятие о нем новыми смыслами. Восток в глобальном смысле размещается прямо в центре мира. Если мы увидим Глобальный Восток в его связи с множеством других мест, его будет сложнее вытеснить на теоретическую обочину. Восток — не Север и не Юг — позволяет нам, размышляющим о глобальном, избежать отступления к разделенным на полушария бинарным противоположностям между богатыми и бедными, сильными и бессильными. Вовлечение в глобальные сравнительные исследования защищает Восток от изоляции, поскольку его множественные опыты — империи, глобализации, неолиберальных реформ, националистического популизма, политического сопротивления и асимметричных войн — теперь наконец-то сопрягаются с дискуссиями об этих темах, ведущимися в разных частях света.
Таким образом, размышление о Глобальном Востоке представляется и политическим проектом. Оно не только позволяет противостоять его восприятию как наполовину Другого на Севере и молчанию о нем на Юге, тем самым создавая возможность принимать во внимание опыт его жителей, отказываясь от европоцентризма, но и утверждает Восток в качестве открытого места, направленного вовне, а не замкнутого снаружи. И теперь, когда мы видим взлет националистического популизма на Севере, Юге и Востоке; популизма, стремящегося оградить страны друг от друга, а не возводить мосты, — утверждение открытости становится важным политическим заявлением. Сейчас, когда, казалось бы, ключевые центры либеральной демократии — Британия и США — находятся в сложной ситуации, этот политический проект может открыть новые возможности, позволяя стирать различия между Севером и Югом, Востоком и Западом, оспаривая установленные иерархии.
Хотя эта статья создает теоретический образ Глобального Востока, увиденный с точки зрения бывших социалистических государств Второго мира, состояние Восточности — полуинаковости, парящей между Севером и Югом, — простирается намного дальше. Как насчет Южной Кореи, Турции или зловещего Ближнего Востока? Используя «Восток» в качестве теоретического инструмента, мы нарушаем молчание, позволяя говорить тем, кто исключен из полушарных разделений на Север и Юг, — тем, кто находится не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между ними. Мы вовсе не стремимся воскресить еще одну бинарность (Запада и Востока), но хотели бы расшатать бинарное геополитическое воображение за счет введения tertium quid [третьего элемента].
Толкуя Глобальный Восток как tertium quid, мы сможем принять и его лиминальное положение, его полуинаковость. Традиционно промежуточную позицию прочитывали как положение, откуда следует переместиться, от которого стоит избавиться, перейдя от периферии к ядру. Но почему бы нам не прочитать эту лиминальность как сильную сторону? Почему бы не использовать предлагаемые ею ресурсы, чтобы обратиться к неуверенностям, непредсказуемостям и импровизационным тактикам? Размышления из точки между Севером и Югом позволяют думать о неоднозначности и эфемерности — не только для Востока, но и для Севера с Югом.
Таким образом, приятие лиминальности Глобального Востока не только вписывает его во множество разворачивающихся споров, посвященных геополитике знаний (Mignolo, 2002), — так называемой третьей волне регионалистики, оспаривающей политику репрезентации и выдвигающей на первый план транснациональные связи (Sidaway et al., 2016), а также теориям Юга (Connell, 2007), — но и приглашает поразмышлять о значении Востока для концептуализации парадоксов и неопределенностей, характеризующих глобализирующиеся общества, — феноменов, так активно обсуждавшихся исследователями в последние десятилетия (Bauman, 2006; Prigogine, 1996; Zizek, 2011).
Таким образом, одной лишь теории о Глобальном Востоке достаточно не будет. Не произойдет повторного вписывания Глобального Востока, если не пересмотреть систему производства знаний о нем. Осуществляя это, мы должны превратить Восток из объекта регионалистики в субъект или же, пожалуй, в метод — «способ преобразования производства знаний» (Chen, 2010: 216). Важно, из какого места осуществляется это повторное встраивание. Недавний рост числа теоретических работ, созданных на Глобальном Востоке, позволяет не сомневаться в том, что пришло время теоретизировать не только о, но и вместе с Глобальным Востоком.
Благодарности
Это вторая статья в серии из четырех текстов. Другие тексты, входящие в нее: «Goodbye Postsocialism!» (Müller, 2019), «Theorising with the Global East» и «How global is global urbanism? How we theorised from the South but forgot about the East». Мне удалось значительно улучшить эту статью, представив в разных форматах идеи, положенные в основу текста, нескольким заинтересованным аудиториям в Велька Ломница в сентябре 2016 года, в Лейпциге в ноябре 2016 года, в Бостоне в апреле 2017 года, в Екатеринбурге и Мюнстере (кантон Вале) в августе 2017 года, в Киеве в сентябре 2017 и в Цюрихе в феврале 2018 года. Благодарю Елену Трубину и Каролин Шур за острые комментарии, а также выражаю благодарность рецензентам и редакторам «Geopolitics» за помощь в оформлении этой публикации.
джерело
В рамках этой статьи мы попробовали определить Восток как Глобальный: восстановить его в праве на место в мире и в праве быть в нем услышанным. Это потребовало рассмотрения Востока с точки зрения стратегического эссенциализма, позволяющего переучредить его как постоянную зону исследовательских интересов и наполнить понятие о нем новыми смыслами. Восток в глобальном смысле размещается прямо в центре мира. Если мы увидим Глобальный Восток в его связи с множеством других мест, его будет сложнее вытеснить на теоретическую обочину. Восток — не Север и не Юг — позволяет нам, размышляющим о глобальном, избежать отступления к разделенным на полушария бинарным противоположностям между богатыми и бедными, сильными и бессильными. Вовлечение в глобальные сравнительные исследования защищает Восток от изоляции, поскольку его множественные опыты — империи, глобализации, неолиберальных реформ, националистического популизма, политического сопротивления и асимметричных войн — теперь наконец-то сопрягаются с дискуссиями об этих темах, ведущимися в разных частях света.
Таким образом, размышление о Глобальном Востоке представляется и политическим проектом. Оно не только позволяет противостоять его восприятию как наполовину Другого на Севере и молчанию о нем на Юге, тем самым создавая возможность принимать во внимание опыт его жителей, отказываясь от европоцентризма, но и утверждает Восток в качестве открытого места, направленного вовне, а не замкнутого снаружи. И теперь, когда мы видим взлет националистического популизма на Севере, Юге и Востоке; популизма, стремящегося оградить страны друг от друга, а не возводить мосты, — утверждение открытости становится важным политическим заявлением. Сейчас, когда, казалось бы, ключевые центры либеральной демократии — Британия и США — находятся в сложной ситуации, этот политический проект может открыть новые возможности, позволяя стирать различия между Севером и Югом, Востоком и Западом, оспаривая установленные иерархии.
Хотя эта статья создает теоретический образ Глобального Востока, увиденный с точки зрения бывших социалистических государств Второго мира, состояние Восточности — полуинаковости, парящей между Севером и Югом, — простирается намного дальше. Как насчет Южной Кореи, Турции или зловещего Ближнего Востока? Используя «Восток» в качестве теоретического инструмента, мы нарушаем молчание, позволяя говорить тем, кто исключен из полушарных разделений на Север и Юг, — тем, кто находится не столько на границах, сколько в зазорах и промежутках между ними. Мы вовсе не стремимся воскресить еще одну бинарность (Запада и Востока), но хотели бы расшатать бинарное геополитическое воображение за счет введения tertium quid [третьего элемента].
Толкуя Глобальный Восток как tertium quid, мы сможем принять и его лиминальное положение, его полуинаковость. Традиционно промежуточную позицию прочитывали как положение, откуда следует переместиться, от которого стоит избавиться, перейдя от периферии к ядру. Но почему бы нам не прочитать эту лиминальность как сильную сторону? Почему бы не использовать предлагаемые ею ресурсы, чтобы обратиться к неуверенностям, непредсказуемостям и импровизационным тактикам? Размышления из точки между Севером и Югом позволяют думать о неоднозначности и эфемерности — не только для Востока, но и для Севера с Югом.
Таким образом, приятие лиминальности Глобального Востока не только вписывает его во множество разворачивающихся споров, посвященных геополитике знаний (Mignolo, 2002), — так называемой третьей волне регионалистики, оспаривающей политику репрезентации и выдвигающей на первый план транснациональные связи (Sidaway et al., 2016), а также теориям Юга (Connell, 2007), — но и приглашает поразмышлять о значении Востока для концептуализации парадоксов и неопределенностей, характеризующих глобализирующиеся общества, — феноменов, так активно обсуждавшихся исследователями в последние десятилетия (Bauman, 2006; Prigogine, 1996; Zizek, 2011).
Таким образом, одной лишь теории о Глобальном Востоке достаточно не будет. Не произойдет повторного вписывания Глобального Востока, если не пересмотреть систему производства знаний о нем. Осуществляя это, мы должны превратить Восток из объекта регионалистики в субъект или же, пожалуй, в метод — «способ преобразования производства знаний» (Chen, 2010: 216). Важно, из какого места осуществляется это повторное встраивание. Недавний рост числа теоретических работ, созданных на Глобальном Востоке, позволяет не сомневаться в том, что пришло время теоретизировать не только о, но и вместе с Глобальным Востоком.
Благодарности
Это вторая статья в серии из четырех текстов. Другие тексты, входящие в нее: «Goodbye Postsocialism!» (Müller, 2019), «Theorising with the Global East» и «How global is global urbanism? How we theorised from the South but forgot about the East». Мне удалось значительно улучшить эту статью, представив в разных форматах идеи, положенные в основу текста, нескольким заинтересованным аудиториям в Велька Ломница в сентябре 2016 года, в Лейпциге в ноябре 2016 года, в Бостоне в апреле 2017 года, в Екатеринбурге и Мюнстере (кантон Вале) в августе 2017 года, в Киеве в сентябре 2017 и в Цюрихе в феврале 2018 года. Благодарю Елену Трубину и Каролин Шур за острые комментарии, а также выражаю благодарность рецензентам и редакторам «Geopolitics» за помощь в оформлении этой публикации.
джерело
~