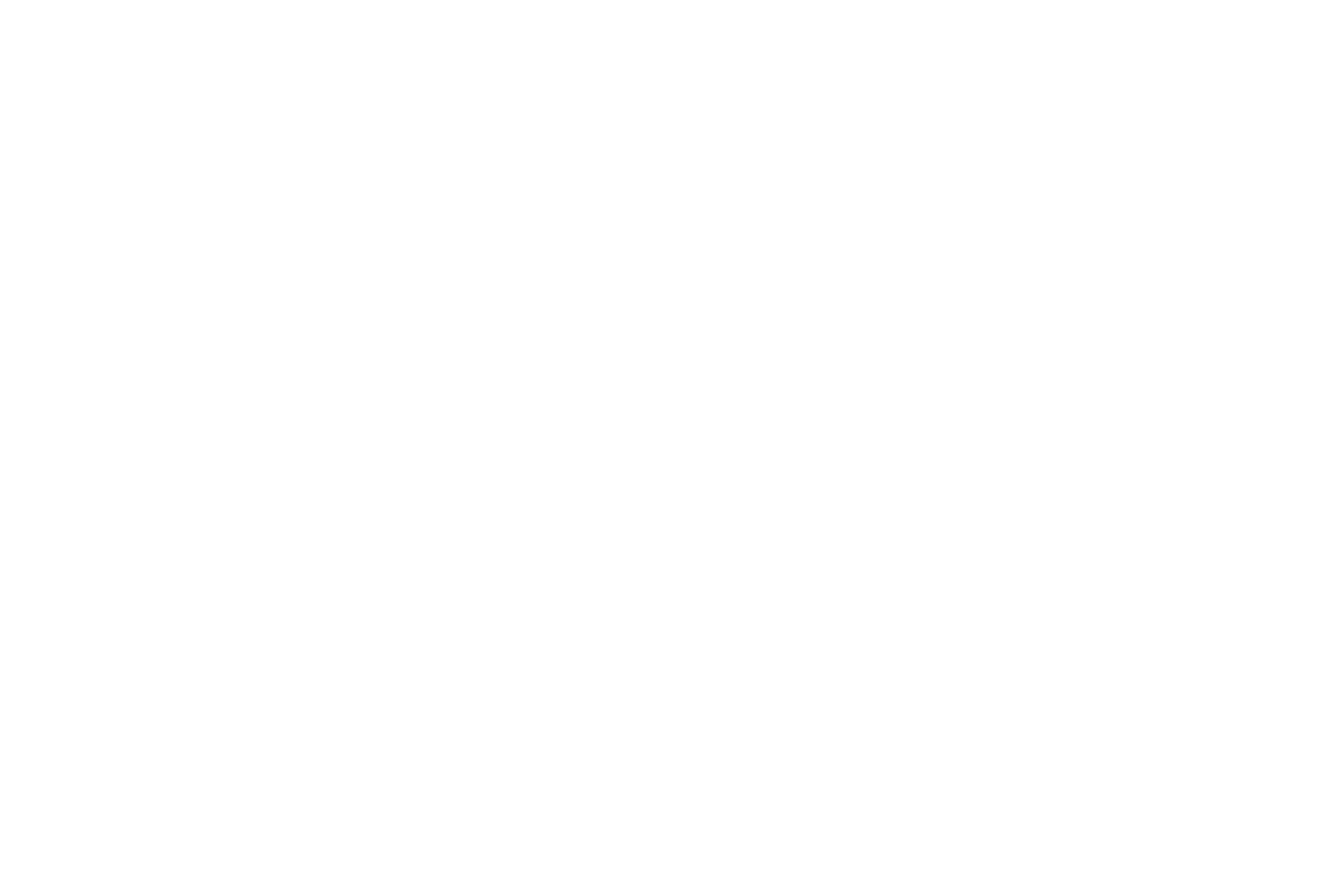© 2019 Strategic Group.Media
СОВЕТСКАЯ МОРАЛЬ
От высоких ценностей к «криминальной революции»?
Леонид Фишман
Доктор политических наук, Профессор РАН, главный научный сотрудник, Институт философии и права, Уральское отделение РАН
Доктор политических наук, Профессор РАН, главный научный сотрудник, Институт философии и права, Уральское отделение РАН
Мартьянов Виктор Сергеевич
Кандидат политических наук, врио директора Института философии и права Уральского отделения РАН
Кандидат политических наук, врио директора Института философии и права Уральского отделения РАН
Сегодня мы становимся свидетелями того, как самостоятельная ценность всего советского последовательно утрачивается, окончательно превращаясь в символический материал для борьбы за настоящее, продолжающее или отрицающее советский опыт. С помощью политик памяти легитимируются совершенно разные идеологические перспективы взгляда на феномен СССР: от репрессивного тоталитаризма до авангарда человечества, изменившего глобальные представления о положении трудящихся классов и социальном государстве для всех современных обществ. При этом субъекты подобного ретроспективного ценностного конструирования без помех и колебаний помещают свой советский личный, семейный и групповой опыт в принципиально разные идеологические конструкции, отметая все противоречия и возражения как несущественные исключения из этого опыта. Однако советское общество имело гораздо более тонкую, сложную, исторически изменчивую и противоречивую структуру ценностей на всех культурных этажах и сообществах, не сводимую к официальной иерархии высших ценностей. Поэтому исторический феномен советского проекта и ценностную мотивацию разных социальных групп внутри него невозможно свести к неким плоским идеологемам, а тем более отклонениям от универсального пути развития человечества, описанного современным экономическим и политическим мейнстримом.
Как принято считать, в конце 1980-х — начале 1990-х годов с советским обществом случилась резкая моральная трансформация. По крайней мере так казалось в силу внезапности этого перехода; как лапидарно выразился А. Юрчак, «это было навсегда, пока не кончилось»1. Проблемой, вытекающей из, казалось бы, самоочевидной констатации катастрофичности перемен в области общественной морали, является следующее. Вряд ли можно сказать, что указанный выше переход произошел легко, и тем не менее, по прошествии двух с половиной десятилетий, трудно отделаться от впечатления, что социальная катастрофа не сопровождалась катастрофой моральной. Подавляющее большинство людей если с ходу и не вписались в рынок, то для перехода к новой к жизни им, в общем, не пришлось переступать через себя. Конечно, это не означает, что граждане все скопом кинулись объединяться в мафии и убивать друг друга, но они оказались вполне терпимо настроены к тем, кто такое делал. Их мораль если не поощряла подобное поведение, то не провоцировала и ярого отторжения, а порой и находила ему оправдания.
С другой стороны, если судить с точки зрения официально декларируемых ценностей, разница между советским прежде и постсоветским теперь выглядела огромной. Такой же она выглядела и тогда, когда в расчет принимались отношения между людьми в повседневной жизни: многие в 1990-е вдруг обнаружили, что в плане человеческих отношений советская жизнь была совсем неплоха, было больше доверия, теплоты, взаимопомощи и т. д. — и куда только все это подевалось?
На последний вопрос отечественные и зарубежные обществоведы давали два основных варианта ответа, в равной мере схематичных и идеологизированных.
Первый заключался в том, что советские люди были ужасно двуличны и лицемерны. Приверженцы этой точки зрения в выражениях не стесняются, для них советский социум был двухсотмиллионной колонией рабов, «для которых не было ни моральных ценностей, ни религиозных — только пропаганда и идеология, созданная на лжи и лицемерии»2. Советского человека можно описывать скорее в отрицательных категориях: прежде всего, у него нет уважения к себе и чувства собственного достоинства, а вместо них либо забитость, либо бесцеремонность. «В целом можно сказать, что нет всего того, что связывает человека со всем прекрасным, странным, живым, тонким, сложным, что создано родом человеческим»3. Настоящего добра советский человек не знает, а может только его симулировать. В то же время он постоянно чего-то боится: «...что кто-то будет свободнее его, боится, что его новая одежда слишком выраженная и яркая, боится, что без оружейного потенциала его стране и счастью наступят конец, боится, что нация будет страдать из-за отсутствия пристального контроля»4. Нравственное сознание советского человека перерождается чудовищным образом: «...предательство переименовывалось в эксперименте в высшую форму верности, а доносительство — в высшую форму честности», «ложь становилась нормальным состоянием сознания и переставала восприниматься как ложь»5.
Поэтому, подчиняясь гнету тоталитарного совка, советские люди в официальной жизни говорили одно, а в частной — другое, на людях клялись в верности одним ценностям и идеалам, но в душе пестовали совсем другие. Понятно, что с наступлением свободы эти лукавые рабы режима быстро показали свое истинное лицо и повели себя соответствующим образом: кто — мещанским, алчным и своекорыстным, а кто-то (явное меньшинство, увы) и цивилизованно, и либерально. Не сказать, что этот ответ был совсем неправдоподобен (нет оснований отрицать наличие соответствующего личного опыта, по крайней мере у авторов приведенных выше высказываний), однако в целом он основывался на достаточно упрощенных представлениях о советских реалиях и человеческом поведении. К тому же надо учитывать своего рода ретроспективную идеологизацию: вспоминая свою жизнь в советские времена, многие, чем далее эти времена отстояли, обнаруживают склонность врать как очевидцы, приписывая себе прошлым взгляды и мотивы себя настоящих6.
Второй ответ исходил из представления о какой-то единой базовой ценностной модели, которая лежала в основании морали подавляющего большинства советских людей, а также представления о высокоморальном и высококультурном обществе, которое, с началом реформ, подвергли принудительной деградации. «Реформаторы понизили порог чувствительности общества к социальной патологии. <…> C 1990-х годов в стране стал насаждаться общественный аморализм… <…> ...[П]роизошло разграбление государства… сопровождаемое тотальной эрозией культуры и морали…»7 «И если моральная деградация еще не полностью прошла свой путь, то лишь потому, что она встречает сопротивление традиционных для России (прим.ред.: тут и далее можно смело подставлять и "Украины", по аналогии) ценностей, нашедших подкрепление и существенное развитие в советский период истории»8. Или, как писал С. Г. Кара-Мурза: «С конца 1980-х годов в России ведется большая и хорошо разработанная программа по релятивизации, а потом и снятии нравственных норм и запретов и внедрению ценностей радикально аморальных»9. Выходило, что советских людей, обладавших высокими моральными достоинствами, цинично обманули. Апеллируя к их моральным чувствам, а отчасти и идеологемам, злоумышленники из зарубежной и отечественной элиты смогли связать высокие моральные идеалы и представления о достойной человека жизни с антисоветским проектом, с капитализмом. А когда те спохватились, было уже поздно. Этот ответ выглядел уже несколько более правдоподобным, поскольку опирался на известные факты явной манипуляции общественным сознанием эпохи перестройки и реформ Ельцина. Тем не менее и он не является достаточно убедительным: трудно поверить, что было возможно посредством одной только манипуляции выдать черное за белое, совратить людей высоконравственного и высококультурного общества, заставив их проявлять упомянутую выше сравнительную толерантность к моральным реалиям великой криминальной революции. Ведь, как сказал Линкольн, невозможно долгое время обманывать всех. И, главное, почему указанный период стал моральной катастрофой лишь для сравнительно небольшого числа алармистов, тогда как большинство пережило его сравнительно спокойно?
Не трудно заметить, что, несмотря на всю разницу, оба эти ответа исходят из того, что в 1990-е произошел резкий переход от общества с одними нравственными и культурными ценностями к обществу с ценностями совсем другими, едва ли не противоположными. Оба ответа нацелены в первую очередь на объяснение высокой скорости этого перехода, описываемого как настоящий моральный коллапс. Но таков ли он был в действительности? Имея основания сомневаться в приведенных выше ответах, мы предлагаем наметить основные черты третьего. Он, конечно, тоже не может считаться исчерпывающим, но, как нам хотелось бы надеяться, избегает значительной доли схематизма и ограниченности первых двух.
Во-первых, мы будем исходить из того, что советская мораль не основывалась на единой «базовой ценностной модели». Как минимум она была двухуровневой, т. е., как и мораль всякого «большого общества», состояла из универсальных принципов и «этики добродетели». Ее универсальные принципы определялись коммунистической идеологией, которая во многом являлась продолжением более широкого, восходящего к либерализму прогрессистско-гуманистического мировоззрения. Окидывая ретроспективным взглядом эволюцию высших ценностей советского политического проекта, можно уверенно сказать, что в его основе лежало стремление воплотить универсальные леволиберальные утопии, предназначенные не только гражданам СССР, но и всему остальному миру. Это освобождение людей труда от господства буржуазного меньшинства; слом сословной структуры в пользу гражданского равенства; расширение социальных благ, адресованных большинству; эгалитаризм; классические либеральные идеи роста возможностей для каждого и прогресса как формы развертывания истории; ценность будущего; мировая революция как катализатор необходимых социальных изменений, а отсюда первоначальная большевистская эсхатология, позже замененная умеренными идеями эволюционного превосходства социализма, а затем и мирного сосуществования. Таким образом, по динамике своего ценностного ядра советское общество предстает как левый позднелиберальный революционный проект, принимающий в расчет причины неудач европейских революций первой волны, чьи политические и экономические результаты были в значительной степени присвоены буржуазными элитами от имени третьего сословия. Ключевую роль в управлении советским обществом играла партийная вертикаль власти, роль остальных властей (система советов, хозяйственная и судебная вертикали и т. д.) по мере удаления от революции лишь снижалась10. Коммунистическая партия отвечала за выработку, распространение и контроль высших ценностей, интегрировавших советское общество поверх всех социальных границ и неравенств. На политическом уровне ценности советского общества целенаправленно прививались с помощью разных механизмов институциональной имплементации, функционально открывающих их для большинства. В советский период идеологическая игра на повышение осуществлялась на всех уровнях социальной системы, начиная с единой иерархии СМИ и заканчивая организацией особых форм коллективности (партийные, комсомольские и пионерские собрания, уроки политической грамотности, собрания трудовых коллективов, субботники, демонстрации в праздничные даты календаря и т. д.), которые формировались для поддержки и воспроизводства высших советских ценностей.
Как принято считать, в конце 1980-х — начале 1990-х годов с советским обществом случилась резкая моральная трансформация. По крайней мере так казалось в силу внезапности этого перехода; как лапидарно выразился А. Юрчак, «это было навсегда, пока не кончилось»1. Проблемой, вытекающей из, казалось бы, самоочевидной констатации катастрофичности перемен в области общественной морали, является следующее. Вряд ли можно сказать, что указанный выше переход произошел легко, и тем не менее, по прошествии двух с половиной десятилетий, трудно отделаться от впечатления, что социальная катастрофа не сопровождалась катастрофой моральной. Подавляющее большинство людей если с ходу и не вписались в рынок, то для перехода к новой к жизни им, в общем, не пришлось переступать через себя. Конечно, это не означает, что граждане все скопом кинулись объединяться в мафии и убивать друг друга, но они оказались вполне терпимо настроены к тем, кто такое делал. Их мораль если не поощряла подобное поведение, то не провоцировала и ярого отторжения, а порой и находила ему оправдания.
С другой стороны, если судить с точки зрения официально декларируемых ценностей, разница между советским прежде и постсоветским теперь выглядела огромной. Такой же она выглядела и тогда, когда в расчет принимались отношения между людьми в повседневной жизни: многие в 1990-е вдруг обнаружили, что в плане человеческих отношений советская жизнь была совсем неплоха, было больше доверия, теплоты, взаимопомощи и т. д. — и куда только все это подевалось?
На последний вопрос отечественные и зарубежные обществоведы давали два основных варианта ответа, в равной мере схематичных и идеологизированных.
Первый заключался в том, что советские люди были ужасно двуличны и лицемерны. Приверженцы этой точки зрения в выражениях не стесняются, для них советский социум был двухсотмиллионной колонией рабов, «для которых не было ни моральных ценностей, ни религиозных — только пропаганда и идеология, созданная на лжи и лицемерии»2. Советского человека можно описывать скорее в отрицательных категориях: прежде всего, у него нет уважения к себе и чувства собственного достоинства, а вместо них либо забитость, либо бесцеремонность. «В целом можно сказать, что нет всего того, что связывает человека со всем прекрасным, странным, живым, тонким, сложным, что создано родом человеческим»3. Настоящего добра советский человек не знает, а может только его симулировать. В то же время он постоянно чего-то боится: «...что кто-то будет свободнее его, боится, что его новая одежда слишком выраженная и яркая, боится, что без оружейного потенциала его стране и счастью наступят конец, боится, что нация будет страдать из-за отсутствия пристального контроля»4. Нравственное сознание советского человека перерождается чудовищным образом: «...предательство переименовывалось в эксперименте в высшую форму верности, а доносительство — в высшую форму честности», «ложь становилась нормальным состоянием сознания и переставала восприниматься как ложь»5.
Поэтому, подчиняясь гнету тоталитарного совка, советские люди в официальной жизни говорили одно, а в частной — другое, на людях клялись в верности одним ценностям и идеалам, но в душе пестовали совсем другие. Понятно, что с наступлением свободы эти лукавые рабы режима быстро показали свое истинное лицо и повели себя соответствующим образом: кто — мещанским, алчным и своекорыстным, а кто-то (явное меньшинство, увы) и цивилизованно, и либерально. Не сказать, что этот ответ был совсем неправдоподобен (нет оснований отрицать наличие соответствующего личного опыта, по крайней мере у авторов приведенных выше высказываний), однако в целом он основывался на достаточно упрощенных представлениях о советских реалиях и человеческом поведении. К тому же надо учитывать своего рода ретроспективную идеологизацию: вспоминая свою жизнь в советские времена, многие, чем далее эти времена отстояли, обнаруживают склонность врать как очевидцы, приписывая себе прошлым взгляды и мотивы себя настоящих6.
Второй ответ исходил из представления о какой-то единой базовой ценностной модели, которая лежала в основании морали подавляющего большинства советских людей, а также представления о высокоморальном и высококультурном обществе, которое, с началом реформ, подвергли принудительной деградации. «Реформаторы понизили порог чувствительности общества к социальной патологии. <…> C 1990-х годов в стране стал насаждаться общественный аморализм… <…> ...[П]роизошло разграбление государства… сопровождаемое тотальной эрозией культуры и морали…»7 «И если моральная деградация еще не полностью прошла свой путь, то лишь потому, что она встречает сопротивление традиционных для России (прим.ред.: тут и далее можно смело подставлять и "Украины", по аналогии) ценностей, нашедших подкрепление и существенное развитие в советский период истории»8. Или, как писал С. Г. Кара-Мурза: «С конца 1980-х годов в России ведется большая и хорошо разработанная программа по релятивизации, а потом и снятии нравственных норм и запретов и внедрению ценностей радикально аморальных»9. Выходило, что советских людей, обладавших высокими моральными достоинствами, цинично обманули. Апеллируя к их моральным чувствам, а отчасти и идеологемам, злоумышленники из зарубежной и отечественной элиты смогли связать высокие моральные идеалы и представления о достойной человека жизни с антисоветским проектом, с капитализмом. А когда те спохватились, было уже поздно. Этот ответ выглядел уже несколько более правдоподобным, поскольку опирался на известные факты явной манипуляции общественным сознанием эпохи перестройки и реформ Ельцина. Тем не менее и он не является достаточно убедительным: трудно поверить, что было возможно посредством одной только манипуляции выдать черное за белое, совратить людей высоконравственного и высококультурного общества, заставив их проявлять упомянутую выше сравнительную толерантность к моральным реалиям великой криминальной революции. Ведь, как сказал Линкольн, невозможно долгое время обманывать всех. И, главное, почему указанный период стал моральной катастрофой лишь для сравнительно небольшого числа алармистов, тогда как большинство пережило его сравнительно спокойно?
Не трудно заметить, что, несмотря на всю разницу, оба эти ответа исходят из того, что в 1990-е произошел резкий переход от общества с одними нравственными и культурными ценностями к обществу с ценностями совсем другими, едва ли не противоположными. Оба ответа нацелены в первую очередь на объяснение высокой скорости этого перехода, описываемого как настоящий моральный коллапс. Но таков ли он был в действительности? Имея основания сомневаться в приведенных выше ответах, мы предлагаем наметить основные черты третьего. Он, конечно, тоже не может считаться исчерпывающим, но, как нам хотелось бы надеяться, избегает значительной доли схематизма и ограниченности первых двух.
Во-первых, мы будем исходить из того, что советская мораль не основывалась на единой «базовой ценностной модели». Как минимум она была двухуровневой, т. е., как и мораль всякого «большого общества», состояла из универсальных принципов и «этики добродетели». Ее универсальные принципы определялись коммунистической идеологией, которая во многом являлась продолжением более широкого, восходящего к либерализму прогрессистско-гуманистического мировоззрения. Окидывая ретроспективным взглядом эволюцию высших ценностей советского политического проекта, можно уверенно сказать, что в его основе лежало стремление воплотить универсальные леволиберальные утопии, предназначенные не только гражданам СССР, но и всему остальному миру. Это освобождение людей труда от господства буржуазного меньшинства; слом сословной структуры в пользу гражданского равенства; расширение социальных благ, адресованных большинству; эгалитаризм; классические либеральные идеи роста возможностей для каждого и прогресса как формы развертывания истории; ценность будущего; мировая революция как катализатор необходимых социальных изменений, а отсюда первоначальная большевистская эсхатология, позже замененная умеренными идеями эволюционного превосходства социализма, а затем и мирного сосуществования. Таким образом, по динамике своего ценностного ядра советское общество предстает как левый позднелиберальный революционный проект, принимающий в расчет причины неудач европейских революций первой волны, чьи политические и экономические результаты были в значительной степени присвоены буржуазными элитами от имени третьего сословия. Ключевую роль в управлении советским обществом играла партийная вертикаль власти, роль остальных властей (система советов, хозяйственная и судебная вертикали и т. д.) по мере удаления от революции лишь снижалась10. Коммунистическая партия отвечала за выработку, распространение и контроль высших ценностей, интегрировавших советское общество поверх всех социальных границ и неравенств. На политическом уровне ценности советского общества целенаправленно прививались с помощью разных механизмов институциональной имплементации, функционально открывающих их для большинства. В советский период идеологическая игра на повышение осуществлялась на всех уровнях социальной системы, начиная с единой иерархии СМИ и заканчивая организацией особых форм коллективности (партийные, комсомольские и пионерские собрания, уроки политической грамотности, собрания трудовых коллективов, субботники, демонстрации в праздничные даты календаря и т. д.), которые формировались для поддержки и воспроизводства высших советских ценностей.
Некоторые авторы считают советскую мораль неполноценной, псевдоморалью11, принимая за аксиому, что в нормальной морали не должно быть места идеологии и что мораль и идеология должны быть разведены12. В то же время традиционная детерминация содержания высших моральных ценностей всякого большого общества со стороны «морали, философии, искусства и особенно религии»13 не вызывает у них отторжения. Между тем очевидно, что в обществах Модерна идеологии давно играют в моральном смысле ту же роль, которую раньше играли религии; да их и называют нередко гражданскими религиями14. Поэтому мы не видим оснований отказывать советской морали в полноценности.
Этику добродетели мы рассматриваем как этику, в центре внимания которой находятся ценности приверженности локальному, корпоративному сообществу, т. е. не универсальные, не отсылающие к трансцендентному в любой форме — религиозной, светской идеологической или этической. Этим объясняется как неустранимость этики добродетели, так и ее ограниченность. Она явно малопригодна для интеграции индивидов в сложное большое общество, но незаменима для создания связей, характерных для малой общности (в терминологии Ф. Тенниса), без которых до сих пор немыслимо функционирование большинства социальных институтов. Однако, будучи предоставленной сама себе, этика добродетели, утрированно выражаясь, пригодна как для коммунистической партии или христианской церкви, так и для банды, мафии или любого иного из борющихся за место под солнцем сообществ друзей, возникающих в период кризисов больших обществ. В период перелома 1990-х потерпели крушение универсальные принципы, а этика добродетели, подходящая для разных целей и пригодная для всякого общественного строя, сохранилась и осталась востребованной. Она-то и сделала криминальную революцию приемлемой для большинства.
Во-вторых, следует учитывать, что советский проект был проектом возвышения человека посредством культуры. Как замечает М. Кантор, он исходил из того, что «исторически сложилось так, что бедные — бедны, а богатые — богаты, но с этим надо покончить. Надо покарать богатых, а бедных приучить к мысли, что их бедность заменят не желанным достатком, а высоким досугом»15. Советская культура начиналась с обещания дать народу нечто вроде нового неба и новой земли, о чем свидетельствовали многочисленные художественные эксперименты, заявления о сбрасывании Пушкина с корабля современности с намерением дать народу кое-что получше и повыше. Но со временем эксперименты в духе Пролеткульта сменились более реалистичной стратегией овладения всем ценным для дела коммунизма культурным наследием человечества: «Рассуждения Ленина и Троцкого о мировой революции, оправдывавшие геростратовские умонастроения культурной элиты двадцатых годов, в середине тридцатых выглядели уже анахронизмом. <…> В литературе и искусстве середины 1930-х годов футурологические утопии уравновешиваются, а постепенно и вытесняются исторической ретроспекцией, призванной представить настоящее закономерным итогом предшествующей истории, всем своим ходом „диалектически" подготовившей благоденствие сталинского правления»16.
В итоге интересующая нас область исторической динамики советской морали всегда была достаточно гетерогенной, чтобы допускать (и даже приветствовать) ряд этических, личностных в широком смысле культурных образцов, не имеющих прямого отношения к коммунистической идеологии, а заимствуемых из области общечеловеческих ценностей. Огромную роль объективно играли попытки интегрировать классово откровенно иные культурные достижения — аристократического по происхождению античного героического эпоса, фольклора (той же сказки, мифа), дворянской или буржуазной культуры, не говоря уж о науке, технике и пр. Все это предполагалось освоить и подчинить новым целям. Например, «советские филологи-классики должны убедить советское общество в… нерасовой и неаристократической специфике произведений, легших в основу европейской, — а значит, и советской — литературы»17.
Успех советского морального-культурного проекта зависел как от степени подчинения коммунистической моралью этики добродетели, так и от интеграции указанных выше иноклассовых культурных и иных образцов. Когда эта степень оказывалась сильной, ценности этики добродетели начинали светиться отраженным светом универсальных моральных ценностей коммунистического проекта или, в более широком его истолковании, ценностями гуманизма, прогресса, «красоты, добра, истины». В любом случае они знали свое место; хотя в реальности носители этих ценностей начинали их переоценивать, считать самодостаточными. В той мере, в которой эта степень оказывалась слабой и формальной, советская мораль и культура приобретали глубинное сходство с иными культурами — либо буржуазной, либо дворянской (наиболее близкой к этике добродетели в ее героической ипостаси), которая была неспособна эффективно противостоять криминальной революции.
Исходя из сказанного, следует указать на содержание тех пластов культуры (в первую очередь литературы), в которой этика добродетели, героические ценности и буржуазная мораль, будучи так и не переваренными, ждали своего часа.
С этикой добродетели в первую очередь связана всякого рода литература, в которой описываются деяния героев. Вначале в советской литературе это были преимущественно герои революции и гражданской войны. При этом показательно, каким образом героическую проблематику пытались «укротить». Так, уже в 1920-е — 1930-е осознавалось, что сам по себе культ героев не есть что-то принципиально-социалистическое. До некоторой степени культ этот был не слишком желателен, поскольку марксизм в его ортодоксальной историко-материалистической интерпретации не придавал роли личности в истории такого значения, которое придавала ему буржуазная, феодальная и даже утопически-социалистическая мысль. Так, Л. Субоцкий, один из ведущих деятелей Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ), говорил: «…феодальная и буржуазная литература всегда имела таких героев, всегда показывала широкие собирательные типы, которые привлекали умы молодежи того времени. <…> ...[М]ы всюду видим этого героя, этот широкий собирательный тип, который должен служить образцом для буржуазной молодежи, тем идеалом, которому должна следовать буржуазная молодежь». В советской же литературе, по словам Л. Субоцкого, нет «образца героя» Гражданской войны: «…у нас <в> худ.<ожественной> литературе еще чрезвычайно редок образец такого героя, который бы действительно стал любимым художественным литературным образцом»18.
Советские писатели должны были всемерно подчеркивать, что «основной базой нашего героизма является правильное понимание сознания классового долга и, вместе с тем, преодоления страха смерти, которое ведет героя к победе, что должно быть нами показано, как естественное воплощение в жизнь правильно понятого классового долга»19. Поэтому, в частности, герой Гражданской войны должен быть собирательным типом героя; не следовало отрывать героя от массы, но при этом и масса не должна быть безликой; надо было показывать, что героями движет классовый долг, и сам герой должен быть классово близким, не попутчиком и т. д.20
Этику добродетели мы рассматриваем как этику, в центре внимания которой находятся ценности приверженности локальному, корпоративному сообществу, т. е. не универсальные, не отсылающие к трансцендентному в любой форме — религиозной, светской идеологической или этической. Этим объясняется как неустранимость этики добродетели, так и ее ограниченность. Она явно малопригодна для интеграции индивидов в сложное большое общество, но незаменима для создания связей, характерных для малой общности (в терминологии Ф. Тенниса), без которых до сих пор немыслимо функционирование большинства социальных институтов. Однако, будучи предоставленной сама себе, этика добродетели, утрированно выражаясь, пригодна как для коммунистической партии или христианской церкви, так и для банды, мафии или любого иного из борющихся за место под солнцем сообществ друзей, возникающих в период кризисов больших обществ. В период перелома 1990-х потерпели крушение универсальные принципы, а этика добродетели, подходящая для разных целей и пригодная для всякого общественного строя, сохранилась и осталась востребованной. Она-то и сделала криминальную революцию приемлемой для большинства.
Во-вторых, следует учитывать, что советский проект был проектом возвышения человека посредством культуры. Как замечает М. Кантор, он исходил из того, что «исторически сложилось так, что бедные — бедны, а богатые — богаты, но с этим надо покончить. Надо покарать богатых, а бедных приучить к мысли, что их бедность заменят не желанным достатком, а высоким досугом»15. Советская культура начиналась с обещания дать народу нечто вроде нового неба и новой земли, о чем свидетельствовали многочисленные художественные эксперименты, заявления о сбрасывании Пушкина с корабля современности с намерением дать народу кое-что получше и повыше. Но со временем эксперименты в духе Пролеткульта сменились более реалистичной стратегией овладения всем ценным для дела коммунизма культурным наследием человечества: «Рассуждения Ленина и Троцкого о мировой революции, оправдывавшие геростратовские умонастроения культурной элиты двадцатых годов, в середине тридцатых выглядели уже анахронизмом. <…> В литературе и искусстве середины 1930-х годов футурологические утопии уравновешиваются, а постепенно и вытесняются исторической ретроспекцией, призванной представить настоящее закономерным итогом предшествующей истории, всем своим ходом „диалектически" подготовившей благоденствие сталинского правления»16.
В итоге интересующая нас область исторической динамики советской морали всегда была достаточно гетерогенной, чтобы допускать (и даже приветствовать) ряд этических, личностных в широком смысле культурных образцов, не имеющих прямого отношения к коммунистической идеологии, а заимствуемых из области общечеловеческих ценностей. Огромную роль объективно играли попытки интегрировать классово откровенно иные культурные достижения — аристократического по происхождению античного героического эпоса, фольклора (той же сказки, мифа), дворянской или буржуазной культуры, не говоря уж о науке, технике и пр. Все это предполагалось освоить и подчинить новым целям. Например, «советские филологи-классики должны убедить советское общество в… нерасовой и неаристократической специфике произведений, легших в основу европейской, — а значит, и советской — литературы»17.
Успех советского морального-культурного проекта зависел как от степени подчинения коммунистической моралью этики добродетели, так и от интеграции указанных выше иноклассовых культурных и иных образцов. Когда эта степень оказывалась сильной, ценности этики добродетели начинали светиться отраженным светом универсальных моральных ценностей коммунистического проекта или, в более широком его истолковании, ценностями гуманизма, прогресса, «красоты, добра, истины». В любом случае они знали свое место; хотя в реальности носители этих ценностей начинали их переоценивать, считать самодостаточными. В той мере, в которой эта степень оказывалась слабой и формальной, советская мораль и культура приобретали глубинное сходство с иными культурами — либо буржуазной, либо дворянской (наиболее близкой к этике добродетели в ее героической ипостаси), которая была неспособна эффективно противостоять криминальной революции.
Исходя из сказанного, следует указать на содержание тех пластов культуры (в первую очередь литературы), в которой этика добродетели, героические ценности и буржуазная мораль, будучи так и не переваренными, ждали своего часа.
С этикой добродетели в первую очередь связана всякого рода литература, в которой описываются деяния героев. Вначале в советской литературе это были преимущественно герои революции и гражданской войны. При этом показательно, каким образом героическую проблематику пытались «укротить». Так, уже в 1920-е — 1930-е осознавалось, что сам по себе культ героев не есть что-то принципиально-социалистическое. До некоторой степени культ этот был не слишком желателен, поскольку марксизм в его ортодоксальной историко-материалистической интерпретации не придавал роли личности в истории такого значения, которое придавала ему буржуазная, феодальная и даже утопически-социалистическая мысль. Так, Л. Субоцкий, один из ведущих деятелей Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ), говорил: «…феодальная и буржуазная литература всегда имела таких героев, всегда показывала широкие собирательные типы, которые привлекали умы молодежи того времени. <…> ...[М]ы всюду видим этого героя, этот широкий собирательный тип, который должен служить образцом для буржуазной молодежи, тем идеалом, которому должна следовать буржуазная молодежь». В советской же литературе, по словам Л. Субоцкого, нет «образца героя» Гражданской войны: «…у нас <в> худ.<ожественной> литературе еще чрезвычайно редок образец такого героя, который бы действительно стал любимым художественным литературным образцом»18.
Советские писатели должны были всемерно подчеркивать, что «основной базой нашего героизма является правильное понимание сознания классового долга и, вместе с тем, преодоления страха смерти, которое ведет героя к победе, что должно быть нами показано, как естественное воплощение в жизнь правильно понятого классового долга»19. Поэтому, в частности, герой Гражданской войны должен быть собирательным типом героя; не следовало отрывать героя от массы, но при этом и масса не должна быть безликой; надо было показывать, что героями движет классовый долг, и сам герой должен быть классово близким, не попутчиком и т. д.20
Показательно, таким образом, что герой и героическое, чтобы быть полностью подходящими для советской пропаганды, обставлялись рядом условий: они должны были в первую очередь быть проводниками универсальных, обусловленных коммунистической идеологией, ценностей и лишь во вторую и третью, и то не без споров о целесообразности, обладать какими-то человеческими чертами. В сущности, от героя требовалось, чтобы он не выглядел слишком уж героическим в привычном для классовых обществ понимании, чтобы пример его был достаточно вдохновляющим, но при этом герой не слишком бы возвышался над массой, а последняя не выглядела безликой толпой. Надо ли говорить, что это была нетривиальная и крайне трудно выполнимая задача и что герои советской литературы все равно во многих отношениях рисовались по привычным канонам, выделявшим героя из массы обычных людей?
Как бы ни обстояли дела с героями в советской литературе, воспитание и образование не могло основываться на личностных образцах, рисуемых только ею. Страна победившего социализма не могла ограничиться воспитанием своих граждан исключительно на примере героев-пролетариев. Причина была банальна: мировая и отечественная культура практически не имела в своем арсенале привлекательных, достаточно целостных образцов гармонично развитой личности — выходца из угнетенных классов. Зато эти образцы были в достатке у классов господствующих, которые исторически ранее обрели досуг для личного самосовершенствования, — аристократии и буржуазии.
При том что со второй половины XIX века русская литература была весьма критично настроена к дворянам, все чаще описывая их как упадочный, паразитический класс, у дворянства, как и вообще у аристократии, по крайней мере в прошлом были уже устоявшиеся образцы гармонично развитого человека, личности, патриота своей родины. Им подражала в свое время буржуазия в Европе, им же стремился подражать во многом и советский человек. «К идеалу воспитанного дворянина XVIII века относились такие определения: „благородство", „служение", „честь". Благородство и честь понимались как личные свойства человека, основа, благодаря которой человек зарабатывает себе репутацию. Служение понимается как любовь к Отчизне, долг, готовность к самопожертвованию»21. Но разве не того же требовалось и от советского человека? Облик идеального дворянина не противоречил идеалу советского гражданина, патриота.
Читатель Пушкина, исходя из идеологических соображений, должен был симпатизировать скорей Пугачеву, чем Петру Гриневу; на деле же человек чести, верный долгу перед Родиной в его понимании, Гринев оказывался не менее, а пожалуй, и более притягательным личностным образцом. Таковыми же представали и дворянские герои популярных на закате советского строя произведений В. Пикуля или, если обратиться к зарубежной литературе, мушкетеры А. Дюма. Отдельного внимания заслуживают романтизированные в духе В. Скотта рыцари, с которыми ассоциировались представления о благородных защитниках слабых и угнетенных. Последнее отлично сочеталось с образами самоотверженных борцов за дело революции и социального прогресса, за правое дело вообще, игравших исключительную роль в советском воспитании и образовании. Тут большое внимание уделялось дворянину-революционеру, вольнодумцу, декабристу. Однако если речь и не шла о героизме, а в художественных произведениях герои-аристократы не отличались выдающимися качествами, то они все-таки обычно описывались как люди утонченные и образованные, что по понятным причинам было привлекательно и само по себе. К тому же надо учитывать, что при преподавании литературы в школе (о чем отдельно — ниже) позитивные герои и авторы-дворяне несколько приукрашивались, а их неприглядные стороны замалчивались.
Возвращаясь к культурному смыслу советского проекта, еще раз отметим: можно утверждать, что он во многом заключался в возвышении всех граждан до уровня дворян на моральном уровне. Эта культурная трансформация подразумевала исключение разного рода материальных излишеств и материального неравенства как потенциального фактора личностной и моральной деградации. Поэтому неслучайно, к примеру, советская фантастика в лице И. Ефремова подчеркивала аскетизм людей будущего, понимающих, что бесконечная экспансия материальных потребностей бессмысленна, особенно когда превращается в самоцель. Возможно, специфической культурной проблематикой советского периода было определение «достойного достаточного» уровня потребностей, исходя из некого общественного консенсуса. Как справедливо полагает Г. Иванкина, в известном смысле советский культурно-воспитательный проект был проектом привития победившим трудящимся высокой дворянской культуры: «...многие из нас любят СССР за аристократизм его культуры, за книжность, за гаммы. За тех самых крапивинских мальчиков, которые оказались рафинированными наследниками дворянских отпрысков с их обостренным чувством справедливости»22.
Буржуазное культурное влияние на советского человека было, возможно, менее заметно в силу того, что российская дореволюционная история не позволила российской буржуазии пережить великие и героические времена, а потому и в русской культуре не успел сформироваться целостный героический, позитивный личностный образец буржуа. Тем не менее, сами объективные потребности модернизации побуждали, не мытьем, так катаньем, учиться у ее чемпионов — западных капиталистов.
Марксизм признавал великую историческую роль буржуазии, которая отнюдь не сразу стала реакционной и прогнившей. Поэтому большевики, по крайней мере в первые годы советской власти, не стеснялись открыто учиться у буржуазии — и не только технически, но и культурно в широком смысле слова. К этому призывали не только Ленин или Горький, но и прочие вожди большевиков и деятели культуры рангом пониже. Их уважительное отношение к капитализму точно выражается в замечании Маяковского: «Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка, работал первым, не боялся тогда, что у него от трудов засалится манишка». Американский капитализм и вовсе был для вождей СССР образцом не только в области науки, техники и организации труда, но, к примеру, и в области народного образования. У капиталистов следовало перенять не только их материальные и научные достижения, но и те черты характера, которые способствовали их появлению. На их основании возникла обширная субкультура, охватывавшая те сословия СССР, которые участвовали в военно-политической, культурной, экономической конкуренции с Западом23.
Но и в области воспитания и культуры для буржуазии и буржуазного дело в СССР обстояло не так и плохо. Так, наряду с отталкивающими, советский читатель нередко встречался и с привлекательными образами буржуазии в отечественной и зарубежной литературе. Тут надо заметить, что для не чуждого искусства человека зачастую кто выглядит эстетически привлекательней, да просто ярче и многоцветней, тот и прав24; он вызывает большую человеческую симпатию, нежели сугубо положительный, но сухой, серый, штампованный герой. Зарубежная классика, доступная советскому читателю, наряду с прочими героями во множестве содержала образы героев-буржуа, в советской интерпретации подаваемых нередко как «люди из народа». Часто это были образы героических буржуа — участников революционной и освободительной борьбы (Тиль Уленшпигель, Овод, герои произведений Виктора Гюго и т. д.). Буржуа оказывался привлекателен не только как революционер, но и как активный, целеустремленный предприниматель и герой труда, а еще более — как авантюрист, приключенец. В СССР, как известно, был культ труда, не уступающий трудовой протестантской этике, описанной М. Вебером. Советские идеологические работники порицали буржуазную экономическую науку за пристрастие к робинзонадам, но сам Робинзон Крузо или персонажи «Таинственного острова» Жюля Верна как герои труда оставались любимыми героями мальчишек. У авторов, подобных Бальзаку, встречались буржуа если не морально безупречные, то колоритные, вроде Гобсека, или не уступающие благородством и красотой души аристократам (в лучшем смысле этого слова). И в целом классическая зарубежная литература XIX века демонстрировала нередко привлекательные образцы «интерференции буржуазных и дворянских личностных образцов»25. Даже в русской литературе ее Золотого и Серебряного веков, которая, в общем, не слишком лестно относилась к промышленнику и купцу, а к концу XIX — началу XX века не прочь была показать картины вырождения буржуазии, не последнее место занимали симпатичные фигуры Андрея Штольца или Ермолая Лопахина, равно как и колоритные персонажи вроде Парфена Рогожина, Прохора Громова или Фомы Гордеева. Советский интеллигентный читатель в таких случаях мог опознать в буржуа социальный типаж, который, подобно ему самому, стремился к возвышенному; обладал притягательной личностной сложностью и глубиной. Как бы то ни было, даже и отрицательные буржуазные персонажи были, что называется, яркими личностями вроде титанов Возрождения, которых интеллигентный читатель приветствовал и прощал им многое. Тем более что это не противоречило по большому счету коммунистической идеологии. В конце концов, как замечает Д. Давыдов, «коммунизм как бы присваивал себе все лучшее в истории (как учил Ленин), в том числе и истории становления личности (при всех оговорках насчет „классовой и исторической ограниченности")»26.
Поэтому нельзя не упомянуть, что, last but not least, все описанные выше процессы происходили в СССР на фоне формирования настоящего культа личности, который, как описано в известной книге О. Хархордина, вначале формировался в ограниченных идеологическими потребностями рамках. Тем не менее ближе к концу советской эпохи от него преимущественно остались практики формирования своей личности путем подражания героям, причем вовсе не обязательно официально превозносимым27. Одним из характерных симптомов этого процесса было изменение преподавания литературы в школе, которое описывается как процесс освобождения от идеологических стандартов интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы. В нем все больше внимания уделялось воспитанию некоей чистой нравственности: «...все чаще учителя переносят „нравственность" на бытовой уровень, избавляя ее от шлейфа абстрактных идеологем. Например, на уроках по „Евгению Онегину" учителя не могут не обсудить с девочками, права ли Татьяна, сама объяснившись в любви. В этом контексте писатель воспринимался как носитель абсолютной нравственности и учитель жизни, знаток (уже не инженер) человеческих душ и глубокий психолог. Писатель не может учить плохому; все почитаемое школой безнравственным (антисемитизм Достоевского, религиозность Гоголя и Л. Н. Толстого, демонстративный аморализм Лермонтова, любвеобильность А. Н. Толстого) замалчивалось, объявлялось случайным или вовсе отрицалось. История русской литературы превращалась в учебник практической нравственности. Эта тенденция существовала и ранее, но никогда она не принимала столь завершенной и откровенной формы…»28 Иными словами, и здесь мы имеем дело с доминированием в повседневном воспитании и образовании приверженности моральным и личностным образцам, не имеющим значимой связи с официальными идеологемами; практической нравственности учат на примерах добродетельных героев классической литературы.
Как бы ни обстояли дела с героями в советской литературе, воспитание и образование не могло основываться на личностных образцах, рисуемых только ею. Страна победившего социализма не могла ограничиться воспитанием своих граждан исключительно на примере героев-пролетариев. Причина была банальна: мировая и отечественная культура практически не имела в своем арсенале привлекательных, достаточно целостных образцов гармонично развитой личности — выходца из угнетенных классов. Зато эти образцы были в достатке у классов господствующих, которые исторически ранее обрели досуг для личного самосовершенствования, — аристократии и буржуазии.
При том что со второй половины XIX века русская литература была весьма критично настроена к дворянам, все чаще описывая их как упадочный, паразитический класс, у дворянства, как и вообще у аристократии, по крайней мере в прошлом были уже устоявшиеся образцы гармонично развитого человека, личности, патриота своей родины. Им подражала в свое время буржуазия в Европе, им же стремился подражать во многом и советский человек. «К идеалу воспитанного дворянина XVIII века относились такие определения: „благородство", „служение", „честь". Благородство и честь понимались как личные свойства человека, основа, благодаря которой человек зарабатывает себе репутацию. Служение понимается как любовь к Отчизне, долг, готовность к самопожертвованию»21. Но разве не того же требовалось и от советского человека? Облик идеального дворянина не противоречил идеалу советского гражданина, патриота.
Читатель Пушкина, исходя из идеологических соображений, должен был симпатизировать скорей Пугачеву, чем Петру Гриневу; на деле же человек чести, верный долгу перед Родиной в его понимании, Гринев оказывался не менее, а пожалуй, и более притягательным личностным образцом. Таковыми же представали и дворянские герои популярных на закате советского строя произведений В. Пикуля или, если обратиться к зарубежной литературе, мушкетеры А. Дюма. Отдельного внимания заслуживают романтизированные в духе В. Скотта рыцари, с которыми ассоциировались представления о благородных защитниках слабых и угнетенных. Последнее отлично сочеталось с образами самоотверженных борцов за дело революции и социального прогресса, за правое дело вообще, игравших исключительную роль в советском воспитании и образовании. Тут большое внимание уделялось дворянину-революционеру, вольнодумцу, декабристу. Однако если речь и не шла о героизме, а в художественных произведениях герои-аристократы не отличались выдающимися качествами, то они все-таки обычно описывались как люди утонченные и образованные, что по понятным причинам было привлекательно и само по себе. К тому же надо учитывать, что при преподавании литературы в школе (о чем отдельно — ниже) позитивные герои и авторы-дворяне несколько приукрашивались, а их неприглядные стороны замалчивались.
Возвращаясь к культурному смыслу советского проекта, еще раз отметим: можно утверждать, что он во многом заключался в возвышении всех граждан до уровня дворян на моральном уровне. Эта культурная трансформация подразумевала исключение разного рода материальных излишеств и материального неравенства как потенциального фактора личностной и моральной деградации. Поэтому неслучайно, к примеру, советская фантастика в лице И. Ефремова подчеркивала аскетизм людей будущего, понимающих, что бесконечная экспансия материальных потребностей бессмысленна, особенно когда превращается в самоцель. Возможно, специфической культурной проблематикой советского периода было определение «достойного достаточного» уровня потребностей, исходя из некого общественного консенсуса. Как справедливо полагает Г. Иванкина, в известном смысле советский культурно-воспитательный проект был проектом привития победившим трудящимся высокой дворянской культуры: «...многие из нас любят СССР за аристократизм его культуры, за книжность, за гаммы. За тех самых крапивинских мальчиков, которые оказались рафинированными наследниками дворянских отпрысков с их обостренным чувством справедливости»22.
Буржуазное культурное влияние на советского человека было, возможно, менее заметно в силу того, что российская дореволюционная история не позволила российской буржуазии пережить великие и героические времена, а потому и в русской культуре не успел сформироваться целостный героический, позитивный личностный образец буржуа. Тем не менее, сами объективные потребности модернизации побуждали, не мытьем, так катаньем, учиться у ее чемпионов — западных капиталистов.
Марксизм признавал великую историческую роль буржуазии, которая отнюдь не сразу стала реакционной и прогнившей. Поэтому большевики, по крайней мере в первые годы советской власти, не стеснялись открыто учиться у буржуазии — и не только технически, но и культурно в широком смысле слова. К этому призывали не только Ленин или Горький, но и прочие вожди большевиков и деятели культуры рангом пониже. Их уважительное отношение к капитализму точно выражается в замечании Маяковского: «Капитализм в молодые года был ничего, деловой парнишка, работал первым, не боялся тогда, что у него от трудов засалится манишка». Американский капитализм и вовсе был для вождей СССР образцом не только в области науки, техники и организации труда, но, к примеру, и в области народного образования. У капиталистов следовало перенять не только их материальные и научные достижения, но и те черты характера, которые способствовали их появлению. На их основании возникла обширная субкультура, охватывавшая те сословия СССР, которые участвовали в военно-политической, культурной, экономической конкуренции с Западом23.
Но и в области воспитания и культуры для буржуазии и буржуазного дело в СССР обстояло не так и плохо. Так, наряду с отталкивающими, советский читатель нередко встречался и с привлекательными образами буржуазии в отечественной и зарубежной литературе. Тут надо заметить, что для не чуждого искусства человека зачастую кто выглядит эстетически привлекательней, да просто ярче и многоцветней, тот и прав24; он вызывает большую человеческую симпатию, нежели сугубо положительный, но сухой, серый, штампованный герой. Зарубежная классика, доступная советскому читателю, наряду с прочими героями во множестве содержала образы героев-буржуа, в советской интерпретации подаваемых нередко как «люди из народа». Часто это были образы героических буржуа — участников революционной и освободительной борьбы (Тиль Уленшпигель, Овод, герои произведений Виктора Гюго и т. д.). Буржуа оказывался привлекателен не только как революционер, но и как активный, целеустремленный предприниматель и герой труда, а еще более — как авантюрист, приключенец. В СССР, как известно, был культ труда, не уступающий трудовой протестантской этике, описанной М. Вебером. Советские идеологические работники порицали буржуазную экономическую науку за пристрастие к робинзонадам, но сам Робинзон Крузо или персонажи «Таинственного острова» Жюля Верна как герои труда оставались любимыми героями мальчишек. У авторов, подобных Бальзаку, встречались буржуа если не морально безупречные, то колоритные, вроде Гобсека, или не уступающие благородством и красотой души аристократам (в лучшем смысле этого слова). И в целом классическая зарубежная литература XIX века демонстрировала нередко привлекательные образцы «интерференции буржуазных и дворянских личностных образцов»25. Даже в русской литературе ее Золотого и Серебряного веков, которая, в общем, не слишком лестно относилась к промышленнику и купцу, а к концу XIX — началу XX века не прочь была показать картины вырождения буржуазии, не последнее место занимали симпатичные фигуры Андрея Штольца или Ермолая Лопахина, равно как и колоритные персонажи вроде Парфена Рогожина, Прохора Громова или Фомы Гордеева. Советский интеллигентный читатель в таких случаях мог опознать в буржуа социальный типаж, который, подобно ему самому, стремился к возвышенному; обладал притягательной личностной сложностью и глубиной. Как бы то ни было, даже и отрицательные буржуазные персонажи были, что называется, яркими личностями вроде титанов Возрождения, которых интеллигентный читатель приветствовал и прощал им многое. Тем более что это не противоречило по большому счету коммунистической идеологии. В конце концов, как замечает Д. Давыдов, «коммунизм как бы присваивал себе все лучшее в истории (как учил Ленин), в том числе и истории становления личности (при всех оговорках насчет „классовой и исторической ограниченности")»26.
Поэтому нельзя не упомянуть, что, last but not least, все описанные выше процессы происходили в СССР на фоне формирования настоящего культа личности, который, как описано в известной книге О. Хархордина, вначале формировался в ограниченных идеологическими потребностями рамках. Тем не менее ближе к концу советской эпохи от него преимущественно остались практики формирования своей личности путем подражания героям, причем вовсе не обязательно официально превозносимым27. Одним из характерных симптомов этого процесса было изменение преподавания литературы в школе, которое описывается как процесс освобождения от идеологических стандартов интерпретации произведений отечественной и зарубежной литературы. В нем все больше внимания уделялось воспитанию некоей чистой нравственности: «...все чаще учителя переносят „нравственность" на бытовой уровень, избавляя ее от шлейфа абстрактных идеологем. Например, на уроках по „Евгению Онегину" учителя не могут не обсудить с девочками, права ли Татьяна, сама объяснившись в любви. В этом контексте писатель воспринимался как носитель абсолютной нравственности и учитель жизни, знаток (уже не инженер) человеческих душ и глубокий психолог. Писатель не может учить плохому; все почитаемое школой безнравственным (антисемитизм Достоевского, религиозность Гоголя и Л. Н. Толстого, демонстративный аморализм Лермонтова, любвеобильность А. Н. Толстого) замалчивалось, объявлялось случайным или вовсе отрицалось. История русской литературы превращалась в учебник практической нравственности. Эта тенденция существовала и ранее, но никогда она не принимала столь завершенной и откровенной формы…»28 Иными словами, и здесь мы имеем дело с доминированием в повседневном воспитании и образовании приверженности моральным и личностным образцам, не имеющим значимой связи с официальными идеологемами; практической нравственности учат на примерах добродетельных героев классической литературы.
Таким образом, можно сказать, что советские воспитание и образование во многом культивировали в человеке либо вполне буржуазные качества, либо же качества, относимые к этике добродетели, индифферентной к высоким идеалам.
Поэтому когда приоритеты, которые ставил перед людьми общественный строй, изменились, это не означало полного морального краха. Социализм сменился капитализмом? Но и без того во многих чертах советское общество больше напоминало буржуазное, чем социалистическое. Как замечает В. М. Воейков, хотя «в условиях советского периода буржуазность не проявлялась, так сказать, в ее чистых формах», а советская идеология и социалистическая фразеология осуждали и тормозили буржуазные, мещанские интенции в официальной жизни, «в реальной жизни эти последние, конечно же, доминировали»29. По мере того, как снижалась значимость высшего слоя советских ценностей, укреплялся потребительский дискурс, росла часто болезненная чувствительность к материальному измерению жизни, к неравенству в потреблении, в доступе к дефициту. Совершалось обратное движение от всеобщего квазиаристократизма даже не к буржуазности, а к расслоению на новые протосословия, на основании профессионального, корпоративного и административного доступа к ресурсам. Собственно, расширение и институциализация теневых схем обмена этими ресурсами внутри номенклатуры и ресурсных ремесел (фарцовщики, спекулянты, деятели культуры, заведующие магазинами и базами потребительских товаров) создало те активные меньшинства, которые в дальнейшем стали средой зарождения новых элит.
Конечно же, во всем описанном выше сыграли ключевую роль фоновые структурные изменения советского общества, влиявшие на трансформацию советской морали и идеологии на протяжении 70 лет его существования. Коммунистические утопии начали осуществляться в аграрно-сословной стране, где 85% составляло крестьянство, живущее общинами, а большая часть населения оставалась неграмотной. В течение нескольких десятилетий ситуация полностью изменилась: советское общество стало поголовно грамотным и, к 1960-м годам, в своем большинстве городским. Постоянное усложнение, индивидуализация и рационализация повседневной жизни, особенно в городах, все более снижали эффективность коллективных моральных регуляторов псевдообщинного типа. По мере расширения пространства дифференцированной регуляции для разных сфер жизни и ползучей деидеологизации различные области повседневных практик граждан постепенно утрачивали связь со сферой высших ценностей.
В сталинский период были решены задачи выживания и модернизации советского общества, требовавшие напряжения всех доступных сил и ресурсов и не совместимых с разномыслием и групповой конкуренцией политических элит. Однако, став мировой сверхдержавой, начиная со второй половины 1950-х, советское общество начало допускать гораздо больше свобод, конкуренции, разномыслия и даже инакомыслия в процессе расширения индивидуальных свобод граждан. Конкуренция в партии и иных сферах уже не заканчивалась для проигравших репрессиями и физическим уничтожением, позднесоветское общество могло позволить все более широкую палитру мнений и ценностей: «Советский социальный костюм 1960 — 70-х гг. „не жал", потому что прежний — довоенного образца — был слишком тугим. Жители коммуналок ощущали прилив свободы, переселяясь в отдельные квартиры. Интеллигент задыхался от свободы, приобщаясь к тайнам сталинской поры (приоткрывая только самый краешек). В 1970-е гг. человек уже вырастал из „костюма", несвобода ощущалась острее — хотя сфера свободы, как мы увидим, расширялась. Просто она росла медленнее, чем потребности в самовыражении, интеллектуальном поиске. Советское общество „разогнало" рост потребностей и теперь не успевало за ними»30.
Например, эволюция советского кино демонстрирует, как противоречиво усложняется пространство частной жизни советских граждан, в то время как коммунистическая идеология постепенно переходит в сферу абстрактно-символического дискурса, все более оторванного от реальной жизни. Фильмы сталинской эпохи повествуют о благотворном влиянии повседневной советской среды и социализма на духовный рост и развитие самых разных людей, которые, освободившись от бремени эксплуатации, ставят перед собой преобразующие их самих и общество цели. Таковы, например, герои оптимистических комедий Г. Александрова и И. Пырьева, становящиеся из крестьян, рабочих и пастухов музыкантами, инженерами и народными депутатами. Однако вера в прямое и быстрое действие социальных утопий постепенно иссякает. Популярные позднесоветские фильмы «Осенний марафон», «Москва слезам не верит», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и др. повествуют уже преимущественно об общечеловеческих проблемах частной жизни, в которой отсутствует необходимость обращения к высшим ценностям советского проекта и нравственным моделям, которым должен соответствовать именно советский гражданин. Нарастающий идеологический застой обусловливает консервативный культурный поворот и заставляет обращаться к героическим временам советского проекта. Это растянувшаяся почти на весь советский период лениниана, состоящая из фильмов, канонизирующих образы большевиков-революционеров. Или многолетняя эпопея (1950 — 1980-е годы) фильмов о Великой Отечественной войне (ВОВ), в которых высшие советские идеалы стали усиленно черпаться в истории старших поколений, в образе победителей ВОВ, но не в современниках, а тем более в образах будущего коммунистического общества.
Важнейшим фактором девальвации высших советских ценностей стала постепенная приостановка революционного импульса, лежавшего в их основе. Развертывание революционного коммунистического проекта, который был адресован всему человечеству, сначала ограничилось одной страной, а потом дополнилось концепцией коэволюции с капиталистическим странами. Эволюция ценностного ядра советского проекта демонстрирует переход от революции, связанной с образами и контролем будущего, к консервативным культурным логикам охранительства и пересмотру места советского проекта в ценностной иерархии всей мировой культуры. Десакрализация высших советских ценностей стала следствием потери советским проектом утопического измерения, связанного с революционным преобразованием мира, со способностью давать надежды на что-то большее. В частности, А. Юрчак отмечает перформативный сдвиг советской официальной культуры 1970 — 1980-х как признак нарастающего застоя и кризиса. Это сдвиг от содержательного производства и обсуждения идеологических фактов и смыслов к воспроизводству ритуальных действий и формальных языковых практик, призванных лишь подтвердить лояльность субъекта существующим в обществе моральным нормам/ценностям принятыми в этом обществе способами. В результате живой язык партийных споров и дискуссий постепенно превращается в деревянный или дубовый язык, «который представлял собой застывшую, постоянно повторяющуюся и неуклюже сложную лингвистическую форму»31. Аналогичные процессы окостенения и формализации происходят в разных областях культуры и искусства, в коллективных практиках общественной и повседневной жизни. Отсюда развиваются двойные стандарты и феномен двоемыслия, когда культурные смыслы и идеологические значения официального языка перестают выполнять реальные регулятивные функции в отношении значительной сферы повседневной жизни людей, перемещаясь исключительно в сферу символического и/или ритуального взаимодействия.
Между тем угасание мощного ценностного импульса коммунистической идеологии происходит и потому, что часть поставленных революцией задач в позднесоветском обществе была успешно реализована в виде социального государства, превратившись из утопии в часть повседневности, которая, как предполагалось, останется вечным завоеванием трудящихся. Однако реализация этих ценностей, например, в виде советского социального государства, стала одновременно их профанизацией, так как они стали советской повседневностью, которая, как казалось, установлена навсегда и более не нуждается в дополнительном ценностном обосновании. В то же время другая часть высших ценностей советского проекта, связанная с мировой экспансией социализма как более прогрессивной и гуманной общественной системы, не нашла своего исторического подтверждения и стала выхолащиваться в виде приземленных хрущевских планов догнать США по производству мяса, молока, чугуна и иных товаров в пересчете на душу населения.
В результате позднесоветское общество постепенно стало преобразовываться в общество без утопий, в котором новые надежды, цели и возможности граждан стали идеологически обосновываться на нижнем ценностном этаже. Идея революции, космополитизм, классовая борьба и преобразование человечества окончательно уступили место разным этикам добродетели в условиях развитого социализма, который закономерно начал впадать в состояние застоя. Очевидно, что расширяющаяся автономия ценностей нижнего этажа привела к укреплению соответствующих теневых сетей и институтов распределения общественных ресурсов. Закономерным следующим шагом стал их вызов высшим идеологическим ценностям и институтам. В результате перестройка как своего рода попытка оживить высшие политические ценности (демократизация, гласность, ускорение, самоуправление) обернулась окончательным поражением советских ценностей от набравших силу несоветских социальных групп, заинтересованных в изменении всего политэкономического порядка и его моральных основ.
Что же произошло в 1990-х? Уместно рассматривать ситуацию в области общественной морали 1990-х годов как следствие временного доминирования этики добродетели, как результат реактуализации тех ценностей, добродетелей, личностных образцов, которые в целостной структуре советской морали играли подчиненную роль. Именно их наличие, с одной стороны, не сделало моральную катастрофу настолько тотальной, как многим казалось в 1990-е годы, а, с другой, обеспечило моральную преемственность между прошлым и будущим — и даже моральную приемлемость теперь с точки зрения прежде. Мораль «жила бы страна родная, и нету других забот», сформированная Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной, уже в поздних советских поколениях постепенно вытесняется приоритетами этики заботы о себе и своем окружении. После СССР эта долгосрочная тенденция деуниверсализации морали продолжилась лишь в более последовательном и легитимном виде. Более того, активная ценностная трансформация в постсоветский период осуществлялась преимущественно в частной жизни, удивительно мало затронув публичную сферу как область совместной жизни, освобожденную от высших коммунистических ценностей советского проекта: «...рост разнообразия и индивидуализма характеризует прежде всего частную сферу, потребление, повседневные практики, в то время как символическая сфера остается как будто замороженной»32. Эту тенденцию подтверждает и усиление символической политики, обращенной на присвоение высших достижений СССР, так как актуальная российская политика, пропитанная этикой добродетели, не способна дать консолидирующих моральных образцов подобного уровня.
Хотя в процессе реформ общество оказалось дезинтегрировано, распались советские коллективы, существенно понизился уровень взаимного доверия и доверия к государственным и социальным институтам33, распад все-таки не дошел до полной атомизации и индивидуализации. Остались друзья и однокашники, сослуживцы и соратники по горячим точкам, семьи и иные малые сообщества. Последние скреплялись узами взаимной верности, главными для этики добродетели, которая оправдывала борьбу за свое и за своих, взывая к лучшим сторонам человека, апеллируя к героическим ценностям. В конечном счете, дело выглядит так, как будто наличие унаследованных от советского времени высоких моральных ценностей не только не препятствовало в ряде случаев принятию участия в «великой криминальной революции», но чуть ли не побуждало к нему. Участникам различных преступных или околокриминальных группировок, в сущности, требовались те же моральные качества, что и кумирам миллионов советских мальчишек, восхищавшихся мушкетерами, пиратами, благородными разбойниками, авантюристами, бунтовщиками, революционерами и прочими подобными героями классической литературы и фольклора. Поэтому симптоматично, что один из авторов, писавший о знаменитом сериале «Бригада», заметил: «...бригада — это „три мушкетера наоборот"»34. В худшем случае «в восприятии потребителя литературной, песенной и телепродукции персонаж криминального мира зачастую приобретает черты справедливого, не вызывающего осуждения „притягательного беспредельщика" со строгими моральными принципами, которые он вынужден переступить. Он попадает в „авторитеты" либо по собственной слабости, либо из желания мести за пережитые страдания, однако, как правило, никогда не показан закоренелым негодяем и вызывает явную симпатию»35. Мы уже не говорим о тех социальных слоях, для которых практически сознательный отказ от идеологически легитимированных ценностей и обусловленных ими социально одобряемых критериев карьеры и жизненных стилей означал фактическую маргинализацию: «…другой вариант — складывание неконформистской „антишкольной" культуры, которая быстро сближается с уголовной… Вместо приватности возникает подчинение новой коллективности, в которой действуют законы полууголовной, а то и просто уголовной среды»36.
Наконец, следует подчеркнуть, что и сама криминальная культура 1990-х появилась не на пустом месте, продолжая богатые традиции советской уголовной субкультуры, реальные размеры которой в идеологических целях преуменьшались, как и растущая позднесоветская статистика преступности и самоубийств: «...примерно 15% населения страны к моменту краха СССР имели за плечами опыт лагерных и тюремных отсидок… ...[C]пецифическая уголовная субкультура получила в СССР распространение, немыслимое в какой-нибудь иной европейской стране. <…> ...[В] 1960-х и 1970-х гг. в советском обществе происходило постепенное нарастание антимилицейских и антисоветских настроений... <…> Расхождение между официальной доктриной „всеобщего равенства и справедливости" и реалиями жизни в СССР постоянно усиливалось»37.
Стоит ли удивляться, что люди достаточно многочисленной субкультуры торгашей не просто отнеслись терпимо к великой криминальной революции 1990-х, но и почувствовали себя в ней как рыба в воде? Тем не менее, как мы видим, и для них новая жизнь, близкая к старой, регулировалась некими «законами полууголовной, а то и просто уголовной среды». Поэтому было бы преувеличением считать, что утрата универсальных моральных ценностей привела к тотальному моральному релятивизму и формированию готического общества, в котором «суть запретов и степень дозволенного полностью определяются вкусами сильнейших»38. Они определяются скорее ситуацией, когда люди руководствуются в первую очередь, конечно, внутрикорпоративными нормами. Но эти нормы, в силу описанных выше причин, имеют отчетливое сходство с такими же нормами других корпораций неосословного общества39, что, по крайней мере на первых порах, делает возможным как моральную коммуникацию, так и существование чего-то подобного общественному договору.
В позднем СССР проклятой стороной советских ценностей стал обобщенный воображаемый образ Запада в виде потребительского рая, всей своей рекламной мощью разрушающий привычную советскую аскезу, мало чувствительную к быту, комфорту, удобствам и иным приятным мелочам приватного жизненного мира на фоне движения к коммунизму в дискурсе тотального освобождения человека. Великая криминальная революция питалась энергией разрушения советского ценностного ядра. Считалось, что его распад сам собой приведет к торжеству универсальных ценностей, уже имевших место на воображаемом Западе. Однако никакого естественного ценностного транзита не случилось, а 1990-е годы стали волшебным негативным зеркалом, в который смотрится политический режим 2000 — 2010 годов, пытаясь получить легитимацию от противного. Таким образом, политические элиты играют на понижение, предъявляя обществу предельно приземленные, прагматичные и противоречивые ценности, которые образуют популистское лоскутное одеяло40. При этом они так и не предложили новой устойчивой иерархии, в виде которой только и может существовать любая ценностная система большого общества и поддерживающие ее представления об общем благе. В результате символический переход от либерально-рыночной к державно-патриотической риторике лишь укрепил корпоративную, рентно-сословную структуру общества, в котором все основные характеристики неопатримониальных политических элит, способы управления и непрозрачные режимы собственности не получили качественных ценностных и онтологических изменений на всем протяжении постсоветской истории.
Перспективы дальнейшей ценностной трансформации противоречивы. С одной стороны, необратимо нарастает коллективное разочарование в идеализированном Западе, который при более близком и массовом знакомстве оказался совокупностью разных обществ с собственными культурными и социально-экономическими противоречиями и с дифференцированными уровнями доступа к ресурсам для разных групп населения. С другой, российский политический порядок так и не смог предложить сильной институциональной и ценностной основы для справедливой и универсальной ценностной интеграции. Г. Юдин сравнивает современных российских граждан с «испуганными социальными атомами», чей радикальный индивидуализм не позволяет им создавать эффективные структуры коллективного действия, предназначенные большому обществу, в отсутствии общей системы высших ценностей41. Существует плохо отрефлексированный общественный запрос на изменение субъектов коллективной ценностно-институциональной регуляции, когда вместо их большой иерархии остались лишь сильные низовые социальные связи (семья, трудовой коллектив, соседи и т. п.). В подобной ситуации наблюдаемый рост индивидуализма оказывается во многом вынужденным механизмом, который обнаруживает невозможность институционального доверия и опоры на устойчивые коллективные структуры, в том числе государство, переставшее гарантировать фундаментальные идеологические константы совместного бытия людей. Увеличение разнообразия моделей поведения, социальных норм и идентичностей, видов взаимодействия и практик не ведет к расширению доступных возможностей, но предстает способом необходимой индивидуальной адаптации граждан к новому социальному порядку. В результате локальные добродетели продолжают превалировать в виде конкурентного индивидуализма, реализуемого внутри корпоративно-сословных сообществ. Соответственно, под социальными инновациями часто скрываются архаичные практики выживания разнообразных отходников и промысловиков, поставленные на обновленную технологическую основу. А дефицит универсальных ценностей подтверждает специфический рентно-сословный характер современного российского общества, которое так и не выработало моральной альтернативы интересам ключевых социальных групп, пришедших к власти в ходе криминальной революции42.
Заключая, отметим, что фактически в 1990-е и отчасти в 2000-е большая часть общества не испытывала катастрофического морального дискомфорта по поводу отсутствия общезначимых ценностей, выходящих за пределы этики добродетели. После крушения двухуровневой советской морали общество аварийно переключилось на регуляцию периферийными и вспомогательными ценностями, что и закрепилось как новая рабочая норма. Некоторый дискомфорт по этому поводу ощущала власть, так как поначалу сверху звучали пожелания сформулировать что-то вроде национальной идеи, общенациональной системы ценностей, которая должна была появиться естественным путем. В любом случае национальная идея рассматривалась как отечественный инвариант идеи либеральной, демократической, западной — словом, универсальной. Однако с течением времени, в виду объективно складывающихся реалий неосословного общества, присущие ему ценностная приземленность и сословно-корпоративная ограниченность на уровне идеологии привели к фактическому отказу от этой претензии. Политический порядок 2000 — 2010 годов был вынужден дистанцироваться от провозглашенных в 1990-е универсальных либеральных ценностных начал и оснований.
Стало очевидно, что поиск новыми элитами системы одновременно альтернативных либеральным и советским общих ценностей зашел в тупик, став факультативным занятием или национальной забавой43, по выражению В. Путина. И даже когда потребность в консолидации общества вокруг общих ценностей актуализируется по какому-то поводу, ее пытаются удовлетворить путем выдачи за универсальные ценности каких-то разновидностей ценностей локальных: от православия — в той мере, в какой оно отождествляется с культурой и традицией, — до семейных, традиционных ценностей и патриотизма. Не демонстрируют успеха и последовательные попытки политических элит установить иерархию постсоветской морали во главе с РПЦ, поскольку последняя слишком ангажирована в публичном пространстве и вызывает множество вопросов относительно применения двойных стандартов в моральных оценках современных жизненных реалий. Таким образом, религиозные институты и основные российские конфессии технологически используются Кремлем для легитимации политического режима, не имея значимой институциональной и моральной автономии.
На этом фоне настойчивые попытки легитимации советским превращаются в символическое присвоение высших достижений СССР, сопровождаемое тщательным изъятием и замалчиванием идеологических ценностей, лежащих в основе этих достижений. Последнее не удивительно: советские ценности большого общества прямо противоречат доминирующей рентно-сословной модели. Формирование действительно новых ценностей большого общества подразумевает серьезные общественные трансформации, предполагая критическую рефлексию над рентно-сословными, корпоративными ценностями и практиками российских политических элит. Однако циркулирующие в публичном пространстве политические дискурсы неспособны выполнить главные задачи, связанные с действительным пониманием общества, в котором мы живем, а тем более обоснованием высших ценностей для этого общества. Поэтому даже если и провозглашается необходимость поиска ценностной альтернативы большому советскому обществу, то поиск этот замирает на полпути. Он сводится, в сущности, к одной затянувшейся попытке переформулировать сословную этику добродетели таким образом, чтобы она стала пригодной для морального окормления большого общества. Насколько же продуктивна такая стратегия и как скоро она перестанет удовлетворять верхи и низы — вопрос, заслуживающий отдельного исследования.
джерело
Поэтому когда приоритеты, которые ставил перед людьми общественный строй, изменились, это не означало полного морального краха. Социализм сменился капитализмом? Но и без того во многих чертах советское общество больше напоминало буржуазное, чем социалистическое. Как замечает В. М. Воейков, хотя «в условиях советского периода буржуазность не проявлялась, так сказать, в ее чистых формах», а советская идеология и социалистическая фразеология осуждали и тормозили буржуазные, мещанские интенции в официальной жизни, «в реальной жизни эти последние, конечно же, доминировали»29. По мере того, как снижалась значимость высшего слоя советских ценностей, укреплялся потребительский дискурс, росла часто болезненная чувствительность к материальному измерению жизни, к неравенству в потреблении, в доступе к дефициту. Совершалось обратное движение от всеобщего квазиаристократизма даже не к буржуазности, а к расслоению на новые протосословия, на основании профессионального, корпоративного и административного доступа к ресурсам. Собственно, расширение и институциализация теневых схем обмена этими ресурсами внутри номенклатуры и ресурсных ремесел (фарцовщики, спекулянты, деятели культуры, заведующие магазинами и базами потребительских товаров) создало те активные меньшинства, которые в дальнейшем стали средой зарождения новых элит.
Конечно же, во всем описанном выше сыграли ключевую роль фоновые структурные изменения советского общества, влиявшие на трансформацию советской морали и идеологии на протяжении 70 лет его существования. Коммунистические утопии начали осуществляться в аграрно-сословной стране, где 85% составляло крестьянство, живущее общинами, а большая часть населения оставалась неграмотной. В течение нескольких десятилетий ситуация полностью изменилась: советское общество стало поголовно грамотным и, к 1960-м годам, в своем большинстве городским. Постоянное усложнение, индивидуализация и рационализация повседневной жизни, особенно в городах, все более снижали эффективность коллективных моральных регуляторов псевдообщинного типа. По мере расширения пространства дифференцированной регуляции для разных сфер жизни и ползучей деидеологизации различные области повседневных практик граждан постепенно утрачивали связь со сферой высших ценностей.
В сталинский период были решены задачи выживания и модернизации советского общества, требовавшие напряжения всех доступных сил и ресурсов и не совместимых с разномыслием и групповой конкуренцией политических элит. Однако, став мировой сверхдержавой, начиная со второй половины 1950-х, советское общество начало допускать гораздо больше свобод, конкуренции, разномыслия и даже инакомыслия в процессе расширения индивидуальных свобод граждан. Конкуренция в партии и иных сферах уже не заканчивалась для проигравших репрессиями и физическим уничтожением, позднесоветское общество могло позволить все более широкую палитру мнений и ценностей: «Советский социальный костюм 1960 — 70-х гг. „не жал", потому что прежний — довоенного образца — был слишком тугим. Жители коммуналок ощущали прилив свободы, переселяясь в отдельные квартиры. Интеллигент задыхался от свободы, приобщаясь к тайнам сталинской поры (приоткрывая только самый краешек). В 1970-е гг. человек уже вырастал из „костюма", несвобода ощущалась острее — хотя сфера свободы, как мы увидим, расширялась. Просто она росла медленнее, чем потребности в самовыражении, интеллектуальном поиске. Советское общество „разогнало" рост потребностей и теперь не успевало за ними»30.
Например, эволюция советского кино демонстрирует, как противоречиво усложняется пространство частной жизни советских граждан, в то время как коммунистическая идеология постепенно переходит в сферу абстрактно-символического дискурса, все более оторванного от реальной жизни. Фильмы сталинской эпохи повествуют о благотворном влиянии повседневной советской среды и социализма на духовный рост и развитие самых разных людей, которые, освободившись от бремени эксплуатации, ставят перед собой преобразующие их самих и общество цели. Таковы, например, герои оптимистических комедий Г. Александрова и И. Пырьева, становящиеся из крестьян, рабочих и пастухов музыкантами, инженерами и народными депутатами. Однако вера в прямое и быстрое действие социальных утопий постепенно иссякает. Популярные позднесоветские фильмы «Осенний марафон», «Москва слезам не верит», «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» и др. повествуют уже преимущественно об общечеловеческих проблемах частной жизни, в которой отсутствует необходимость обращения к высшим ценностям советского проекта и нравственным моделям, которым должен соответствовать именно советский гражданин. Нарастающий идеологический застой обусловливает консервативный культурный поворот и заставляет обращаться к героическим временам советского проекта. Это растянувшаяся почти на весь советский период лениниана, состоящая из фильмов, канонизирующих образы большевиков-революционеров. Или многолетняя эпопея (1950 — 1980-е годы) фильмов о Великой Отечественной войне (ВОВ), в которых высшие советские идеалы стали усиленно черпаться в истории старших поколений, в образе победителей ВОВ, но не в современниках, а тем более в образах будущего коммунистического общества.
Важнейшим фактором девальвации высших советских ценностей стала постепенная приостановка революционного импульса, лежавшего в их основе. Развертывание революционного коммунистического проекта, который был адресован всему человечеству, сначала ограничилось одной страной, а потом дополнилось концепцией коэволюции с капиталистическим странами. Эволюция ценностного ядра советского проекта демонстрирует переход от революции, связанной с образами и контролем будущего, к консервативным культурным логикам охранительства и пересмотру места советского проекта в ценностной иерархии всей мировой культуры. Десакрализация высших советских ценностей стала следствием потери советским проектом утопического измерения, связанного с революционным преобразованием мира, со способностью давать надежды на что-то большее. В частности, А. Юрчак отмечает перформативный сдвиг советской официальной культуры 1970 — 1980-х как признак нарастающего застоя и кризиса. Это сдвиг от содержательного производства и обсуждения идеологических фактов и смыслов к воспроизводству ритуальных действий и формальных языковых практик, призванных лишь подтвердить лояльность субъекта существующим в обществе моральным нормам/ценностям принятыми в этом обществе способами. В результате живой язык партийных споров и дискуссий постепенно превращается в деревянный или дубовый язык, «который представлял собой застывшую, постоянно повторяющуюся и неуклюже сложную лингвистическую форму»31. Аналогичные процессы окостенения и формализации происходят в разных областях культуры и искусства, в коллективных практиках общественной и повседневной жизни. Отсюда развиваются двойные стандарты и феномен двоемыслия, когда культурные смыслы и идеологические значения официального языка перестают выполнять реальные регулятивные функции в отношении значительной сферы повседневной жизни людей, перемещаясь исключительно в сферу символического и/или ритуального взаимодействия.
Между тем угасание мощного ценностного импульса коммунистической идеологии происходит и потому, что часть поставленных революцией задач в позднесоветском обществе была успешно реализована в виде социального государства, превратившись из утопии в часть повседневности, которая, как предполагалось, останется вечным завоеванием трудящихся. Однако реализация этих ценностей, например, в виде советского социального государства, стала одновременно их профанизацией, так как они стали советской повседневностью, которая, как казалось, установлена навсегда и более не нуждается в дополнительном ценностном обосновании. В то же время другая часть высших ценностей советского проекта, связанная с мировой экспансией социализма как более прогрессивной и гуманной общественной системы, не нашла своего исторического подтверждения и стала выхолащиваться в виде приземленных хрущевских планов догнать США по производству мяса, молока, чугуна и иных товаров в пересчете на душу населения.
В результате позднесоветское общество постепенно стало преобразовываться в общество без утопий, в котором новые надежды, цели и возможности граждан стали идеологически обосновываться на нижнем ценностном этаже. Идея революции, космополитизм, классовая борьба и преобразование человечества окончательно уступили место разным этикам добродетели в условиях развитого социализма, который закономерно начал впадать в состояние застоя. Очевидно, что расширяющаяся автономия ценностей нижнего этажа привела к укреплению соответствующих теневых сетей и институтов распределения общественных ресурсов. Закономерным следующим шагом стал их вызов высшим идеологическим ценностям и институтам. В результате перестройка как своего рода попытка оживить высшие политические ценности (демократизация, гласность, ускорение, самоуправление) обернулась окончательным поражением советских ценностей от набравших силу несоветских социальных групп, заинтересованных в изменении всего политэкономического порядка и его моральных основ.
Что же произошло в 1990-х? Уместно рассматривать ситуацию в области общественной морали 1990-х годов как следствие временного доминирования этики добродетели, как результат реактуализации тех ценностей, добродетелей, личностных образцов, которые в целостной структуре советской морали играли подчиненную роль. Именно их наличие, с одной стороны, не сделало моральную катастрофу настолько тотальной, как многим казалось в 1990-е годы, а, с другой, обеспечило моральную преемственность между прошлым и будущим — и даже моральную приемлемость теперь с точки зрения прежде. Мораль «жила бы страна родная, и нету других забот», сформированная Октябрьской революцией и Великой Отечественной войной, уже в поздних советских поколениях постепенно вытесняется приоритетами этики заботы о себе и своем окружении. После СССР эта долгосрочная тенденция деуниверсализации морали продолжилась лишь в более последовательном и легитимном виде. Более того, активная ценностная трансформация в постсоветский период осуществлялась преимущественно в частной жизни, удивительно мало затронув публичную сферу как область совместной жизни, освобожденную от высших коммунистических ценностей советского проекта: «...рост разнообразия и индивидуализма характеризует прежде всего частную сферу, потребление, повседневные практики, в то время как символическая сфера остается как будто замороженной»32. Эту тенденцию подтверждает и усиление символической политики, обращенной на присвоение высших достижений СССР, так как актуальная российская политика, пропитанная этикой добродетели, не способна дать консолидирующих моральных образцов подобного уровня.
Хотя в процессе реформ общество оказалось дезинтегрировано, распались советские коллективы, существенно понизился уровень взаимного доверия и доверия к государственным и социальным институтам33, распад все-таки не дошел до полной атомизации и индивидуализации. Остались друзья и однокашники, сослуживцы и соратники по горячим точкам, семьи и иные малые сообщества. Последние скреплялись узами взаимной верности, главными для этики добродетели, которая оправдывала борьбу за свое и за своих, взывая к лучшим сторонам человека, апеллируя к героическим ценностям. В конечном счете, дело выглядит так, как будто наличие унаследованных от советского времени высоких моральных ценностей не только не препятствовало в ряде случаев принятию участия в «великой криминальной революции», но чуть ли не побуждало к нему. Участникам различных преступных или околокриминальных группировок, в сущности, требовались те же моральные качества, что и кумирам миллионов советских мальчишек, восхищавшихся мушкетерами, пиратами, благородными разбойниками, авантюристами, бунтовщиками, революционерами и прочими подобными героями классической литературы и фольклора. Поэтому симптоматично, что один из авторов, писавший о знаменитом сериале «Бригада», заметил: «...бригада — это „три мушкетера наоборот"»34. В худшем случае «в восприятии потребителя литературной, песенной и телепродукции персонаж криминального мира зачастую приобретает черты справедливого, не вызывающего осуждения „притягательного беспредельщика" со строгими моральными принципами, которые он вынужден переступить. Он попадает в „авторитеты" либо по собственной слабости, либо из желания мести за пережитые страдания, однако, как правило, никогда не показан закоренелым негодяем и вызывает явную симпатию»35. Мы уже не говорим о тех социальных слоях, для которых практически сознательный отказ от идеологически легитимированных ценностей и обусловленных ими социально одобряемых критериев карьеры и жизненных стилей означал фактическую маргинализацию: «…другой вариант — складывание неконформистской „антишкольной" культуры, которая быстро сближается с уголовной… Вместо приватности возникает подчинение новой коллективности, в которой действуют законы полууголовной, а то и просто уголовной среды»36.
Наконец, следует подчеркнуть, что и сама криминальная культура 1990-х появилась не на пустом месте, продолжая богатые традиции советской уголовной субкультуры, реальные размеры которой в идеологических целях преуменьшались, как и растущая позднесоветская статистика преступности и самоубийств: «...примерно 15% населения страны к моменту краха СССР имели за плечами опыт лагерных и тюремных отсидок… ...[C]пецифическая уголовная субкультура получила в СССР распространение, немыслимое в какой-нибудь иной европейской стране. <…> ...[В] 1960-х и 1970-х гг. в советском обществе происходило постепенное нарастание антимилицейских и антисоветских настроений... <…> Расхождение между официальной доктриной „всеобщего равенства и справедливости" и реалиями жизни в СССР постоянно усиливалось»37.
Стоит ли удивляться, что люди достаточно многочисленной субкультуры торгашей не просто отнеслись терпимо к великой криминальной революции 1990-х, но и почувствовали себя в ней как рыба в воде? Тем не менее, как мы видим, и для них новая жизнь, близкая к старой, регулировалась некими «законами полууголовной, а то и просто уголовной среды». Поэтому было бы преувеличением считать, что утрата универсальных моральных ценностей привела к тотальному моральному релятивизму и формированию готического общества, в котором «суть запретов и степень дозволенного полностью определяются вкусами сильнейших»38. Они определяются скорее ситуацией, когда люди руководствуются в первую очередь, конечно, внутрикорпоративными нормами. Но эти нормы, в силу описанных выше причин, имеют отчетливое сходство с такими же нормами других корпораций неосословного общества39, что, по крайней мере на первых порах, делает возможным как моральную коммуникацию, так и существование чего-то подобного общественному договору.
В позднем СССР проклятой стороной советских ценностей стал обобщенный воображаемый образ Запада в виде потребительского рая, всей своей рекламной мощью разрушающий привычную советскую аскезу, мало чувствительную к быту, комфорту, удобствам и иным приятным мелочам приватного жизненного мира на фоне движения к коммунизму в дискурсе тотального освобождения человека. Великая криминальная революция питалась энергией разрушения советского ценностного ядра. Считалось, что его распад сам собой приведет к торжеству универсальных ценностей, уже имевших место на воображаемом Западе. Однако никакого естественного ценностного транзита не случилось, а 1990-е годы стали волшебным негативным зеркалом, в который смотрится политический режим 2000 — 2010 годов, пытаясь получить легитимацию от противного. Таким образом, политические элиты играют на понижение, предъявляя обществу предельно приземленные, прагматичные и противоречивые ценности, которые образуют популистское лоскутное одеяло40. При этом они так и не предложили новой устойчивой иерархии, в виде которой только и может существовать любая ценностная система большого общества и поддерживающие ее представления об общем благе. В результате символический переход от либерально-рыночной к державно-патриотической риторике лишь укрепил корпоративную, рентно-сословную структуру общества, в котором все основные характеристики неопатримониальных политических элит, способы управления и непрозрачные режимы собственности не получили качественных ценностных и онтологических изменений на всем протяжении постсоветской истории.
Перспективы дальнейшей ценностной трансформации противоречивы. С одной стороны, необратимо нарастает коллективное разочарование в идеализированном Западе, который при более близком и массовом знакомстве оказался совокупностью разных обществ с собственными культурными и социально-экономическими противоречиями и с дифференцированными уровнями доступа к ресурсам для разных групп населения. С другой, российский политический порядок так и не смог предложить сильной институциональной и ценностной основы для справедливой и универсальной ценностной интеграции. Г. Юдин сравнивает современных российских граждан с «испуганными социальными атомами», чей радикальный индивидуализм не позволяет им создавать эффективные структуры коллективного действия, предназначенные большому обществу, в отсутствии общей системы высших ценностей41. Существует плохо отрефлексированный общественный запрос на изменение субъектов коллективной ценностно-институциональной регуляции, когда вместо их большой иерархии остались лишь сильные низовые социальные связи (семья, трудовой коллектив, соседи и т. п.). В подобной ситуации наблюдаемый рост индивидуализма оказывается во многом вынужденным механизмом, который обнаруживает невозможность институционального доверия и опоры на устойчивые коллективные структуры, в том числе государство, переставшее гарантировать фундаментальные идеологические константы совместного бытия людей. Увеличение разнообразия моделей поведения, социальных норм и идентичностей, видов взаимодействия и практик не ведет к расширению доступных возможностей, но предстает способом необходимой индивидуальной адаптации граждан к новому социальному порядку. В результате локальные добродетели продолжают превалировать в виде конкурентного индивидуализма, реализуемого внутри корпоративно-сословных сообществ. Соответственно, под социальными инновациями часто скрываются архаичные практики выживания разнообразных отходников и промысловиков, поставленные на обновленную технологическую основу. А дефицит универсальных ценностей подтверждает специфический рентно-сословный характер современного российского общества, которое так и не выработало моральной альтернативы интересам ключевых социальных групп, пришедших к власти в ходе криминальной революции42.
Заключая, отметим, что фактически в 1990-е и отчасти в 2000-е большая часть общества не испытывала катастрофического морального дискомфорта по поводу отсутствия общезначимых ценностей, выходящих за пределы этики добродетели. После крушения двухуровневой советской морали общество аварийно переключилось на регуляцию периферийными и вспомогательными ценностями, что и закрепилось как новая рабочая норма. Некоторый дискомфорт по этому поводу ощущала власть, так как поначалу сверху звучали пожелания сформулировать что-то вроде национальной идеи, общенациональной системы ценностей, которая должна была появиться естественным путем. В любом случае национальная идея рассматривалась как отечественный инвариант идеи либеральной, демократической, западной — словом, универсальной. Однако с течением времени, в виду объективно складывающихся реалий неосословного общества, присущие ему ценностная приземленность и сословно-корпоративная ограниченность на уровне идеологии привели к фактическому отказу от этой претензии. Политический порядок 2000 — 2010 годов был вынужден дистанцироваться от провозглашенных в 1990-е универсальных либеральных ценностных начал и оснований.
Стало очевидно, что поиск новыми элитами системы одновременно альтернативных либеральным и советским общих ценностей зашел в тупик, став факультативным занятием или национальной забавой43, по выражению В. Путина. И даже когда потребность в консолидации общества вокруг общих ценностей актуализируется по какому-то поводу, ее пытаются удовлетворить путем выдачи за универсальные ценности каких-то разновидностей ценностей локальных: от православия — в той мере, в какой оно отождествляется с культурой и традицией, — до семейных, традиционных ценностей и патриотизма. Не демонстрируют успеха и последовательные попытки политических элит установить иерархию постсоветской морали во главе с РПЦ, поскольку последняя слишком ангажирована в публичном пространстве и вызывает множество вопросов относительно применения двойных стандартов в моральных оценках современных жизненных реалий. Таким образом, религиозные институты и основные российские конфессии технологически используются Кремлем для легитимации политического режима, не имея значимой институциональной и моральной автономии.
На этом фоне настойчивые попытки легитимации советским превращаются в символическое присвоение высших достижений СССР, сопровождаемое тщательным изъятием и замалчиванием идеологических ценностей, лежащих в основе этих достижений. Последнее не удивительно: советские ценности большого общества прямо противоречат доминирующей рентно-сословной модели. Формирование действительно новых ценностей большого общества подразумевает серьезные общественные трансформации, предполагая критическую рефлексию над рентно-сословными, корпоративными ценностями и практиками российских политических элит. Однако циркулирующие в публичном пространстве политические дискурсы неспособны выполнить главные задачи, связанные с действительным пониманием общества, в котором мы живем, а тем более обоснованием высших ценностей для этого общества. Поэтому даже если и провозглашается необходимость поиска ценностной альтернативы большому советскому обществу, то поиск этот замирает на полпути. Он сводится, в сущности, к одной затянувшейся попытке переформулировать сословную этику добродетели таким образом, чтобы она стала пригодной для морального окормления большого общества. Насколько же продуктивна такая стратегия и как скоро она перестанет удовлетворять верхи и низы — вопрос, заслуживающий отдельного исследования.
джерело
~
1 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., «Новое литературное обозрение», 2014.
2 Панфилов О. Лицемерие советских рабов <https://ru.krymr.com/a/27593417.html>.
3 Седакова О. О феномене советского человека. Интервью <http://olgasedakova.com/interview/903>.
4 Власов Р. Феномен советского человека <https://www.proza.ru/2018/08/19/127>.
5 Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/chernoiv/14.php>.
6 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось, стр. 42 — 43.
7 Симонян Р. Х. Реформы 1990-х годов: оценка сегодня. — «Россия и современный мир», 2011, № 1.
8 Руткевич М. Н. Процессы социальной деградации в российском обществе. — «Социологические исследования», 1998, № 6.
9 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., «Эксмо», 2005, стр. 546.
10 Ореховский П. А. Структуры когнитивности и российские реформы: Научный доклад, препринт. М., Институт экономики РАН, 2019, стр. 32.
11 Зиновьев А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма. М., «Центрполиграф», 1994, стр. 261.
12 Столяр М. Религия советской цивилизации. Киев, «Стилос», 2010, стр. 87 — 88.
14 Фишман Л. Г. Кризис морали как кризис идеологий? — «Пространство и время», 2014, № 1.
15 Кантор М. Апостол революции. — В кн.: Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. XX век: Сборник. 2-е издание. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2011, стр. 211.
16 Богданов К. А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., «Новое литературное обозрение», 2009, стр. 107 — 108.
18 Цит. по: Закружная З. С. Принципы изображения героя Гражданской войны в литературно-критических выступлениях членов ЛОКАФ (по материалам архива ОР ИМЛИ РАН). — «Вестник славянских культур», 2018, т. 49, стр. 174 — 175.
21 Темирова А. В. Развитие дворянской «гражданственности» в Российской империи XVIII в. — История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты: сб. ст. по матер. I — II международных научно-практических конференций, № 1-2(1). Новосибирск, «СибАК», 2017, стр. 26 — 29.
22 Иванкина Г. Советская культура как дворянская эстетика <https://www.ridus.ru/news/191190>.
23 Карачаровский В. В., Шкаратан О. И., Ястребов Г. А. Русская культура труда и иностранное влияние. М., «Страна Оз», 2015, стр. 86 — 87.
24 Мелихов А. Красочное и серое (М. А. Шолохов). — В кн.: Литературная матрица…, стр. 616.
25 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., «Прогресс», 1987, стр. 427 — 460.
26 Давыдов Д. Сможет ли коммунизм совладать с личностью? Об основном противоречии посткапиталистического общества. — «Свободная мысль», 2018, № 5.
27 Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб., Издательство Европейского университета СПб, 2002, стр. 463 — 472.
28 Пономарев Е. Литература в советской школе как идеология повседневности. — «Новое литературное обозрение», 2017, № 145.
29 Воейков М. Вперед к капитализму? К вопросу о предстоящей стадии социально-экономического развития России. — «Свободная мысль», 2015, № 4.
30 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., «Вече», 2008, стр. 8 — 9.
31 Юрчак А. С. Это было навсегда, пока не кончилось, стр. 73 — 75.
32 Волькенштейн М. Разнообразие и приспособленчество. Как и в чем модернизируется российское общество <https://www.inliberty.ru/article/modern-volkenstein>.
33 Мартьянов В. С. Доверие в современной России: между поздним Модерном и новой сословностью? — Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН, 2017. Т. 17. Вып. 1, стр. 61 — 82.
34 Янушко Е. Сериал «Бригада». Как один фильм повлиял на криминальную ситуацию в нашей стране <https://www.yburlan.ru/biblioteka/serial-brigada-kak-odin-film-povlijal-na-kriminalnuju-situaciju-v-nashej-strane>.
35 <https://forum.zakonia.ru/showpost.php?p=1285407>.
36 Козлова Н. Н. Сцены из частной жизни периода «застоя»: семейная переписка. — «Журнал социологии и социальной антропологии», 1999, Т. II, № 3.
37 Ракитин А. «Социализм не порождает преступности». Серийная преступность в СССР: историко-криминалистический анализ. Екатеринбург, «Кабинетный ученый», 2016, стр. 58 — 59.
38 Хапаева Д. Р. Готическое общество: Морфология кошмара. Изд. 2-е. М., «Новое литературное обозрение», 2008, стр. 118.
39 Фишман Л. Г., Мартьянов В. С. Этика добродетели для новых сословий: трансформация политической морали в современной России. — «Вопросы философии», 2016, № 10.
40 Мартьянов В. С. Идеология В. В. Путина: концептуализация посланий президента РФ. — «Политическая экспертиза», 2007, № 1.
41 Страна напуганных атомов. Профессор «Шанинки» Григорий Юдин — о портрете современного россиянин <https://novayagazeta.ru/articles/2018/12/18/78978-strana-raspavshayasya-na-atomy>.
42 Фишман Л. Г., Мартьянов В. С., Давыдов Д. А. Рентное общество: в тени труда, капитала и демократии. М., Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.
43 Путин Владимир. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 26 апреля 2007 года <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24203>.
2 Панфилов О. Лицемерие советских рабов <https://ru.krymr.com/a/27593417.html>.
3 Седакова О. О феномене советского человека. Интервью <http://olgasedakova.com/interview/903>.
4 Власов Р. Феномен советского человека <https://www.proza.ru/2018/08/19/127>.
5 Черноиваненко Е. Литературный процесс в историко-культурном контексте <https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/chernoiv/14.php>.
6 Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось, стр. 42 — 43.
7 Симонян Р. Х. Реформы 1990-х годов: оценка сегодня. — «Россия и современный мир», 2011, № 1.
8 Руткевич М. Н. Процессы социальной деградации в российском обществе. — «Социологические исследования», 1998, № 6.
9 Кара-Мурза С. Г. Манипуляция сознанием. М., «Эксмо», 2005, стр. 546.
10 Ореховский П. А. Структуры когнитивности и российские реформы: Научный доклад, препринт. М., Институт экономики РАН, 2019, стр. 32.
11 Зиновьев А. Коммунизм как реальность. Кризис коммунизма. М., «Центрполиграф», 1994, стр. 261.
12 Столяр М. Религия советской цивилизации. Киев, «Стилос», 2010, стр. 87 — 88.
14 Фишман Л. Г. Кризис морали как кризис идеологий? — «Пространство и время», 2014, № 1.
15 Кантор М. Апостол революции. — В кн.: Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. XX век: Сборник. 2-е издание. СПб., «Лимбус Пресс», «Издательство К. Тублина», 2011, стр. 211.
16 Богданов К. А. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., «Новое литературное обозрение», 2009, стр. 107 — 108.
18 Цит. по: Закружная З. С. Принципы изображения героя Гражданской войны в литературно-критических выступлениях членов ЛОКАФ (по материалам архива ОР ИМЛИ РАН). — «Вестник славянских культур», 2018, т. 49, стр. 174 — 175.
21 Темирова А. В. Развитие дворянской «гражданственности» в Российской империи XVIII в. — История, политология, социология, философия: теоретические и практические аспекты: сб. ст. по матер. I — II международных научно-практических конференций, № 1-2(1). Новосибирск, «СибАК», 2017, стр. 26 — 29.
22 Иванкина Г. Советская культура как дворянская эстетика <https://www.ridus.ru/news/191190>.
23 Карачаровский В. В., Шкаратан О. И., Ястребов Г. А. Русская культура труда и иностранное влияние. М., «Страна Оз», 2015, стр. 86 — 87.
24 Мелихов А. Красочное и серое (М. А. Шолохов). — В кн.: Литературная матрица…, стр. 616.
25 Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., «Прогресс», 1987, стр. 427 — 460.
26 Давыдов Д. Сможет ли коммунизм совладать с личностью? Об основном противоречии посткапиталистического общества. — «Свободная мысль», 2018, № 5.
27 Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб., Издательство Европейского университета СПб, 2002, стр. 463 — 472.
28 Пономарев Е. Литература в советской школе как идеология повседневности. — «Новое литературное обозрение», 2017, № 145.
29 Воейков М. Вперед к капитализму? К вопросу о предстоящей стадии социально-экономического развития России. — «Свободная мысль», 2015, № 4.
30 Шубин А. В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., «Вече», 2008, стр. 8 — 9.
31 Юрчак А. С. Это было навсегда, пока не кончилось, стр. 73 — 75.
32 Волькенштейн М. Разнообразие и приспособленчество. Как и в чем модернизируется российское общество <https://www.inliberty.ru/article/modern-volkenstein>.
33 Мартьянов В. С. Доверие в современной России: между поздним Модерном и новой сословностью? — Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения РАН, 2017. Т. 17. Вып. 1, стр. 61 — 82.
34 Янушко Е. Сериал «Бригада». Как один фильм повлиял на криминальную ситуацию в нашей стране <https://www.yburlan.ru/biblioteka/serial-brigada-kak-odin-film-povlijal-na-kriminalnuju-situaciju-v-nashej-strane>.
35 <https://forum.zakonia.ru/showpost.php?p=1285407>.
36 Козлова Н. Н. Сцены из частной жизни периода «застоя»: семейная переписка. — «Журнал социологии и социальной антропологии», 1999, Т. II, № 3.
37 Ракитин А. «Социализм не порождает преступности». Серийная преступность в СССР: историко-криминалистический анализ. Екатеринбург, «Кабинетный ученый», 2016, стр. 58 — 59.
38 Хапаева Д. Р. Готическое общество: Морфология кошмара. Изд. 2-е. М., «Новое литературное обозрение», 2008, стр. 118.
39 Фишман Л. Г., Мартьянов В. С. Этика добродетели для новых сословий: трансформация политической морали в современной России. — «Вопросы философии», 2016, № 10.
40 Мартьянов В. С. Идеология В. В. Путина: концептуализация посланий президента РФ. — «Политическая экспертиза», 2007, № 1.
41 Страна напуганных атомов. Профессор «Шанинки» Григорий Юдин — о портрете современного россиянин <https://novayagazeta.ru/articles/2018/12/18/78978-strana-raspavshayasya-na-atomy>.
42 Фишман Л. Г., Мартьянов В. С., Давыдов Д. А. Рентное общество: в тени труда, капитала и демократии. М., Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.
43 Путин Владимир. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 26 апреля 2007 года <http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24203>.