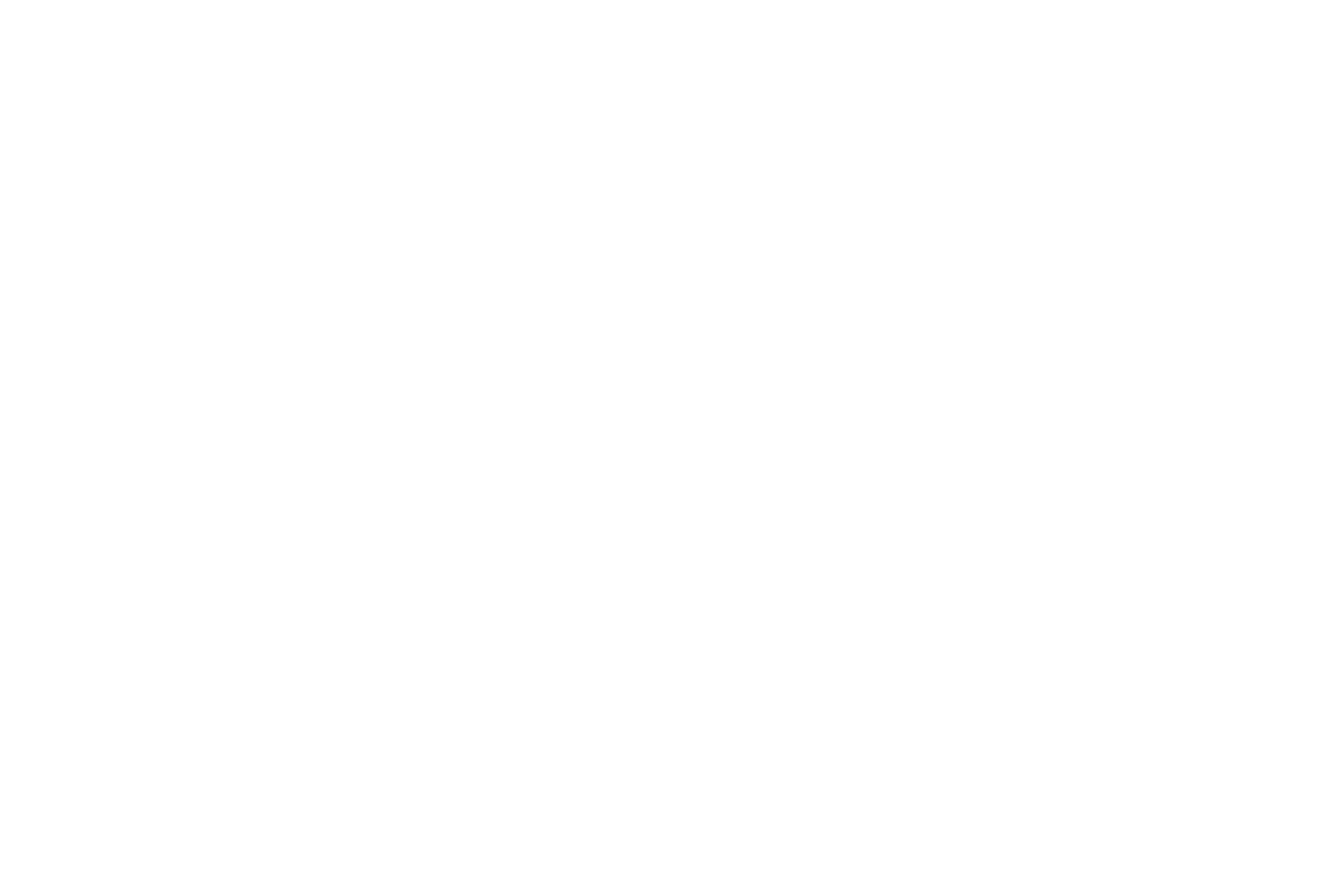© 2019 Strategic Group.Media
Всеобщая ценность. Создание и изъятие в глобальной экономике
По мнению Марианы Маццукато, для понимания экономического роста необходимо вернуться к вопросам о том, что такое богатство и откуда берётся ценность. В представляемой книге «Всеобщая ценность» автор целенаправленно возобновляет междицисплинарную дискуссию о категории ценности, которая обычно находилась— и всё так же должна находиться — в самом сердце экономической мысли. Маццукато настаивает на том, что в современной экономической науке разные виды деятельности по изъятию ценности вуалируются под её создание, что в результате приводит к росту социального неравенства и сокращению инвестиций в реальную экономику. Для того чтобы разобраться в негативных последствиях деятельности, связанной с изъятием ценности, необходимо, по мнению автора, выяснить, что именно изымается. Какие социальные, экономические и организационные условия необходимы для производства ценности? - Публикуется введение к книге М. Маццукато — «Ценность всех вещей. Создание и изъятие в мировой экономике»
Введение. Создание versus изъятие
“
Варварские золотые бароны — они не находили золото, они не добывали золото, они не извлекали золото из породы, но в силу некоей таинственной алхимии все золото принадлежало им.
Билл Хейвуд выражал своё недоумение красноречиво, будучи представителем интересов работников и работниц американской горнодобываю- York: Allen Lane-Penguin; щей промышленности в начале XX века и в период Великой депрессии Public Affairs 1930-х гг. Он обладал глубоким знанием промышленности, но при этом не мог ответить на вопрос, почему владельцы капитала, которые занимались лишь покупкой и продажей золота на рынке, получали так много денег, в то время как рабочие, тратившие свою психическую и физическую энергию на то, чтобы найти золото, добыть и выделить его из породы, получали так мало. Почему те, кто осуществлял изъятие, получали такие большие деньги за счёт создателей?
Вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. В 2016 г. обанкротился британский массовый ритейлер BritishHome Stores (BHS). Эта компания была основана в 1928 г., а в 2004 г. её купил за 200 млн фунтов стерлингов сэр Филип Грин, известный предприниматель в сфере розничной торговли. В 2015 г. сэр Филип продал этот бизнес за один фунт группе инвесторов во главе с британским предпринимателем Домиником Чеппеллом. За то время, пока торговый дом находился под его контролем, сэр Филип и его семья извлекли из компании примерно 580 млн фунтов стерлингов в виде дивидендов, арендной платы и процентов по займам, которые они предоставляли компании. Крах BHS лишил работы 11 тысяч человек и оставил после себя дефицит пенсионного фонда компании в размере 571 млн фунтов стерлингов, несмотря на то что в момент приобретения фонда сэром Филипом он имел положительный баланс. В отчёте о расследовании краха BHS, проведённом Особым комитетом по занятости и пенсиям Палаты общин, сэр Филип, мистер Чеппелл и их «прихлебатели» обвинялись в «систематическом грабеже». Для работников и пенсионеров BHS и их семей, чья достойная жизнь зависела от компании, всё это было изъятием ценности эпического масштаба — присвоением доходов, совершенно несопоставимых с размером экономического вклада. Но для сэра Филипа и других людей, которые контролировали этот бизнес, это было созданием ценности.
Хотя деятельность сэра Филипа можно рассматривать как некое отклонение от нормы, как субъективные эксцессы, его манера мышления едва ли нестандартна: на многих гигантских корпорациях сегодня также лежит вина в смешении создания ценности с её изъятием. Например, в августе 2016 г. Европейская комиссия — исполнительный орган Евросоюза — спровоцировала международный скандал между Евросоюзом и США, обязав компанию Apple выплатить Ирландии 13 млрд евро задолженности по налогам.
Apple — крупнейшая компания в мире по стоимости на фондовом рынке. В 2015 г. гигантский объём денег и ценных бумаг — 187 млрд долларов, что почти сопоставимо с размером экономики Чешской Республики в том же году, — Apple держала за пределами США, чтобы избежать американских налогов на свои доходы, которые пришлось бы заплатить в случае репатриации денег. В рамках соглашения с Ирландией, заключённого ещё в 1991 г., двум ирландским «дочкам» Apple был предоставлен очень благоприятный налоговый режим. Этими дочерними структурами были Apple Sales International (ASI), на которую заводились все прибыли с продаж iPhone и других устройств Apple в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии, и Apple Operations Europe, которая занималась производством компьютеров. Права на развитие своих продуктов Apple за символическую стоимость передавала ASI, тем самым лишая американского налогоплательщика доходов от тех реализованных в продуктах Apple технологий, исходное развитие которых этот налогоплательщик профинансировал. Европейская комиссия утверждала, что максимальная ставка, применявшаяся к подлежащим налогообложению прибылям, которые приходовались через ирландскую юрисдикцию, составляла 1%. Однако в 2014 г. Apple платила налог по ставке лишь 0,005%. Стандартная же ставка корпоративного налогообложения в Ирландии составляет 12,5%.
Более того, эти «ирландские» дочерние структуры Apple в действительности вообще не являются налоговыми резидентами с конкретным местоположением. Так случилось потому, что они использовали разночтения между ирландскими и американскими определениями постоянного местонахождения. Почти все прибыли, получаемые этими дочерними компаниями, относились на их «головные офисы», которые существовали только на бумаге. Еврокомиссия распорядилась, чтобы Apple доплатила налоги, исходя из того, что соглашение между Apple и Ирландией предполагало неправомерную государственную помощь (правительственную поддержку, дающую той или иной компании преимущество над её конкурентами), при этом Ирландия не предлагала схожие условия другим компаниям. Как утверждала Еврокомиссия, Ирландия предложила Apple сверхнизкие налоги в обмен на создание рабочих мест в других бизнесах компании на своей территории. Apple и Ирландия отвергли требование Еврокомиссии. И Apple, конечно же, не единственная крупная корпорация, создавшая подобные причудливые налоговые структуры.
Однако реализованный Apple цикл изъятия ценности не ограничивается международными налоговыми операциями этой компании — этот цикл гораздо ближе к её домашней территории. Не только Apple извлекала ценность у ирландских налогоплательщиков. То же самое проделывало ирландское правительство с налогоплательщиком в США. Почему так произошло? Apple создавала свою интеллектуальную собственность в Калифорнии, где размещены её штаб-квартиры. В действительности, как утверждалось в моей предыдущей книге «TheEntrepreneurial State» («Предпринимательское государство») [Mazzucato 2013] — и эту тему мы ещё рассмотрим вкратце ниже, в главе 7, — все технологии, делающие смартфоны «умными» (smart), создавались на государственные средства. Однако в 2006 г. Apple во избежание государственных налогов в Калифорнии создала дочернюю структуру в Рино, штат Невада, где отсутствует налог на корпоративный доход или на доход от прироста капитала. Творчески назвав её Braebum Capital, Apple перевела часть своих прибылей в США на эту дочернюю структуру в Неваде вместо того, чтобы декларировать эти средства в Калифорнии. В 2006-2012 гг. Apple заработала 2,5 млрд долларов в виде процентов и дивидендов, которые были декларированы в Неваде во избежание налогов в Калифорнии. Достигший угрожающих размеров долг Калифорнии стал бы значительно меньше, если бы Apple точно и в полной мере отчитывалась о своих доходах в США именно в этом штате, где исходно формировалась значительная доля её ценности (архитектура и дизайн устройств, продажи, маркетинг и т. д.). Именно так изъятие ценности стравливает американские штаты друг с другом, а заодно и ссорит США с другими странами.
Очевидно, что исключительно сложные схемы минимизации налогообложения Apple разрабатывались прежде всего для извлечения из её бизнеса максимальной ценности путём уклонения от уплаты значительных налогов, которые пошли бы на пользу тем странам, где работает компания. Нет сомнений в том, что Apple определённо создаёт ценность. Однако игнорирование той поддержки, которую предоставили компании-налогоплательщики, а затем стравливание друг с другом штатов и государств определённо не является путём построения инновационной экономики или достижения инклюзивного роста, идущего на пользу широким массам людей, а не только тем, кто смог лучше всего «надуть» систему.
В осуществляемом Apple изъятии ценности есть ещё один аспект. Многие подобные корпорации используют свои прибыли для краткосрочного повышения цены собственных акций вместо долгосрочного реинвестирования прибылей в производство. Основным применяемым для этого способом выступает использование резервов денежных средств для обратного выкупа акций у инвесторов, которым рассказывают, что это делается для максимизации акционерной «ценности» (дохода, получаемого акционерами компании, который основан на оценке её биржевых котировок). Однако вовсе не случайно, что среди главных бенефициаров обратного выкупа акций оказываются менеджеры компаний, имеющие доступ к щедрым схемам льготных опционов, которые представляют собой один из составных элементов их совокупного вознаграждения, — те же самые менеджеры, которые занимаются реализацией программ обратного выкупа акций. Например, в 2012 г. Apple объявила программу обратного выкупа акций в ошеломительном объёме до 100 млрд долларов. Отчасти это было связано с необходимостью отбиваться от акционеров-«активистов», которые требовали, чтобы компания возвращала им денежные средства для «раскрытия акционерной ценности» [Lazonick, Mazzucato, Tulum 2013]. Вместо реинвестирования в свой бизнес Apple предпочла перечислять средства акционерам.
Словом, та алхимия противопоставления изымающих и создающих, о которой Большой Билл Хейвуд говорил ещё в 1920-х гг., актуальна и сегодня.
Вопрос не потерял своей актуальности и сегодня. В 2016 г. обанкротился британский массовый ритейлер BritishHome Stores (BHS). Эта компания была основана в 1928 г., а в 2004 г. её купил за 200 млн фунтов стерлингов сэр Филип Грин, известный предприниматель в сфере розничной торговли. В 2015 г. сэр Филип продал этот бизнес за один фунт группе инвесторов во главе с британским предпринимателем Домиником Чеппеллом. За то время, пока торговый дом находился под его контролем, сэр Филип и его семья извлекли из компании примерно 580 млн фунтов стерлингов в виде дивидендов, арендной платы и процентов по займам, которые они предоставляли компании. Крах BHS лишил работы 11 тысяч человек и оставил после себя дефицит пенсионного фонда компании в размере 571 млн фунтов стерлингов, несмотря на то что в момент приобретения фонда сэром Филипом он имел положительный баланс. В отчёте о расследовании краха BHS, проведённом Особым комитетом по занятости и пенсиям Палаты общин, сэр Филип, мистер Чеппелл и их «прихлебатели» обвинялись в «систематическом грабеже». Для работников и пенсионеров BHS и их семей, чья достойная жизнь зависела от компании, всё это было изъятием ценности эпического масштаба — присвоением доходов, совершенно несопоставимых с размером экономического вклада. Но для сэра Филипа и других людей, которые контролировали этот бизнес, это было созданием ценности.
Хотя деятельность сэра Филипа можно рассматривать как некое отклонение от нормы, как субъективные эксцессы, его манера мышления едва ли нестандартна: на многих гигантских корпорациях сегодня также лежит вина в смешении создания ценности с её изъятием. Например, в августе 2016 г. Европейская комиссия — исполнительный орган Евросоюза — спровоцировала международный скандал между Евросоюзом и США, обязав компанию Apple выплатить Ирландии 13 млрд евро задолженности по налогам.
Apple — крупнейшая компания в мире по стоимости на фондовом рынке. В 2015 г. гигантский объём денег и ценных бумаг — 187 млрд долларов, что почти сопоставимо с размером экономики Чешской Республики в том же году, — Apple держала за пределами США, чтобы избежать американских налогов на свои доходы, которые пришлось бы заплатить в случае репатриации денег. В рамках соглашения с Ирландией, заключённого ещё в 1991 г., двум ирландским «дочкам» Apple был предоставлен очень благоприятный налоговый режим. Этими дочерними структурами были Apple Sales International (ASI), на которую заводились все прибыли с продаж iPhone и других устройств Apple в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Индии, и Apple Operations Europe, которая занималась производством компьютеров. Права на развитие своих продуктов Apple за символическую стоимость передавала ASI, тем самым лишая американского налогоплательщика доходов от тех реализованных в продуктах Apple технологий, исходное развитие которых этот налогоплательщик профинансировал. Европейская комиссия утверждала, что максимальная ставка, применявшаяся к подлежащим налогообложению прибылям, которые приходовались через ирландскую юрисдикцию, составляла 1%. Однако в 2014 г. Apple платила налог по ставке лишь 0,005%. Стандартная же ставка корпоративного налогообложения в Ирландии составляет 12,5%.
Более того, эти «ирландские» дочерние структуры Apple в действительности вообще не являются налоговыми резидентами с конкретным местоположением. Так случилось потому, что они использовали разночтения между ирландскими и американскими определениями постоянного местонахождения. Почти все прибыли, получаемые этими дочерними компаниями, относились на их «головные офисы», которые существовали только на бумаге. Еврокомиссия распорядилась, чтобы Apple доплатила налоги, исходя из того, что соглашение между Apple и Ирландией предполагало неправомерную государственную помощь (правительственную поддержку, дающую той или иной компании преимущество над её конкурентами), при этом Ирландия не предлагала схожие условия другим компаниям. Как утверждала Еврокомиссия, Ирландия предложила Apple сверхнизкие налоги в обмен на создание рабочих мест в других бизнесах компании на своей территории. Apple и Ирландия отвергли требование Еврокомиссии. И Apple, конечно же, не единственная крупная корпорация, создавшая подобные причудливые налоговые структуры.
Однако реализованный Apple цикл изъятия ценности не ограничивается международными налоговыми операциями этой компании — этот цикл гораздо ближе к её домашней территории. Не только Apple извлекала ценность у ирландских налогоплательщиков. То же самое проделывало ирландское правительство с налогоплательщиком в США. Почему так произошло? Apple создавала свою интеллектуальную собственность в Калифорнии, где размещены её штаб-квартиры. В действительности, как утверждалось в моей предыдущей книге «TheEntrepreneurial State» («Предпринимательское государство») [Mazzucato 2013] — и эту тему мы ещё рассмотрим вкратце ниже, в главе 7, — все технологии, делающие смартфоны «умными» (smart), создавались на государственные средства. Однако в 2006 г. Apple во избежание государственных налогов в Калифорнии создала дочернюю структуру в Рино, штат Невада, где отсутствует налог на корпоративный доход или на доход от прироста капитала. Творчески назвав её Braebum Capital, Apple перевела часть своих прибылей в США на эту дочернюю структуру в Неваде вместо того, чтобы декларировать эти средства в Калифорнии. В 2006-2012 гг. Apple заработала 2,5 млрд долларов в виде процентов и дивидендов, которые были декларированы в Неваде во избежание налогов в Калифорнии. Достигший угрожающих размеров долг Калифорнии стал бы значительно меньше, если бы Apple точно и в полной мере отчитывалась о своих доходах в США именно в этом штате, где исходно формировалась значительная доля её ценности (архитектура и дизайн устройств, продажи, маркетинг и т. д.). Именно так изъятие ценности стравливает американские штаты друг с другом, а заодно и ссорит США с другими странами.
Очевидно, что исключительно сложные схемы минимизации налогообложения Apple разрабатывались прежде всего для извлечения из её бизнеса максимальной ценности путём уклонения от уплаты значительных налогов, которые пошли бы на пользу тем странам, где работает компания. Нет сомнений в том, что Apple определённо создаёт ценность. Однако игнорирование той поддержки, которую предоставили компании-налогоплательщики, а затем стравливание друг с другом штатов и государств определённо не является путём построения инновационной экономики или достижения инклюзивного роста, идущего на пользу широким массам людей, а не только тем, кто смог лучше всего «надуть» систему.
В осуществляемом Apple изъятии ценности есть ещё один аспект. Многие подобные корпорации используют свои прибыли для краткосрочного повышения цены собственных акций вместо долгосрочного реинвестирования прибылей в производство. Основным применяемым для этого способом выступает использование резервов денежных средств для обратного выкупа акций у инвесторов, которым рассказывают, что это делается для максимизации акционерной «ценности» (дохода, получаемого акционерами компании, который основан на оценке её биржевых котировок). Однако вовсе не случайно, что среди главных бенефициаров обратного выкупа акций оказываются менеджеры компаний, имеющие доступ к щедрым схемам льготных опционов, которые представляют собой один из составных элементов их совокупного вознаграждения, — те же самые менеджеры, которые занимаются реализацией программ обратного выкупа акций. Например, в 2012 г. Apple объявила программу обратного выкупа акций в ошеломительном объёме до 100 млрд долларов. Отчасти это было связано с необходимостью отбиваться от акционеров-«активистов», которые требовали, чтобы компания возвращала им денежные средства для «раскрытия акционерной ценности» [Lazonick, Mazzucato, Tulum 2013]. Вместо реинвестирования в свой бизнес Apple предпочла перечислять средства акционерам.
Словом, та алхимия противопоставления изымающих и создающих, о которой Большой Билл Хейвуд говорил ещё в 1920-х гг., актуальна и сегодня.
Фактическая ошибка. Американский профсоюзный деятель Уильям Дадли (Большой Билл) Хейвуд (1869-1928), к концу жизни ставший одним из лидеров международного рабочего движения, в 1921 г. эмигрировал в Советскую Россию и скончался в Москве. — Примеч. перев.
How Philip Green's Family Made Millions as Value of BHS Plummeted. Cm.:https://www.theguardian.com/business/2016/ apr/25/bhs-philip-green-family-millions-administration-arcadia
По имени пони Брейбёрн (Braebum), персонажа мультфильмов 1950-х гг. «Яблоки раздора», «Слёт семьи Эпл» и «Родео в Эпполузе». Как и большинство имён членов семьи Эпл, имя является названием сорта яблок, который в России известен как бребурн или бребёрн. Город Рино в штате Невада был первым крупнейшим центром азартных игр в США, установившим для своих резидентов исключительно благоприятные условия налогообложения. — Пргшеч. перев.
Распространённые направления критики изъятия ценности
Последствия принципиально важного, но зачастую бессистемного различия между изъятием и созданием ценности выходят далеко за рамки судеб отдельных компаний и их работников или даже целых обществ. Изъятие ценности имеет громадные социальные, экономические и политические последствия. В период до финансового кризиса 2007 года доля верхнего 1% в совокупных доходах населения США выросла с 9,4% в 1980 г. до ошеломляющих 22,6% в 2007 г., а в дальнейшем ситуация лишь ухудшалась. Начиная с 2009 г. неравенство росло ещё быстрее, чем до финансового краха 2008 года. По состоянию на 2015 г. совокупное состояние 62 богатейших людей нашей планеты оценивалось примерно так же, как и аналогичный показатель у нижней половины мирового населения, то есть у 3,5 млрд человек [Oxfam 2017].
За счёт чего продолжает существовать вся эта алхимия? Привычная критика современного капитализма заключается в том, что он вознаграждает «искателей ренты», а не подлинных «создателей богатства». Под «погоней за рентой» в данном случае имеется в виду стремление генерировать доход не за счёт производства чего-либо нового, а путём установления наценки сверх «конкурентной цены» и подрыва конкуренции благодаря использованию отдельных преимуществ (в том числе в области труда) или, как в случае отраслей с крупными компаниями, за счёт способности этих последних блокировать доступ в свой сегмент других игроков и получения монопольного преимущества. Рентоориентированная деятельность часто рассматривается и в иных аспектах: «изыматели» выигрывают у «создателей», а «хищнический» капитализм побеждает капитализм «производительный». Всё это рассматривается в качестве ключевого способа — возможно, того самого ключевого способа, — с помощью которого 1% добился власти над 99%. Привычной мишенью подобной критики оказываются банки и прочие финансовые институты. Считается, что они получают прибыль от спекулятивных видов деятельности, в основе которых лежит принцип «купи дёшево — продай дорого», или от покупки и последующего «раздербанивания» производственных активов, чтобы затем вновь продать их без какой-либо реальной добавленной ценности.
Более тонкие аналитики связывали нарастающее неравенство с тем специфическим способом, каким «изыматели» увеличивали своё богатство. Французский экономист Томас Пикетти в своей влиятельной книге «Капитал в XXI веке» [Piketty 2014] сосредоточивается на неравенстве, формируемом хищнической финансовой индустрией при отсутствии должного её налогообложения, и на том, какими способами богатство наследуется из поколения в поколение, что даёт самым богатым изначальное преимущество для того, чтобы стать ещё богаче. Исследование Пикетти содержит ключ к пониманию того, почему коэффициент окупаемости по финансовым активам (которые он называет капиталом) оказался выше, чем коэффициент окупаемости капиталовложений в рост, и призывает к повышенному налогообложению проистекающих из данного обстоятельства богатств и наследств, чтобы остановить этот порочный круг. В идеале, с точки зрения Пикетти, подобные налоги должны быть всемирными, дабы избежать ситуации, когда одна страна ослабляет другую.
Ещё один ведущий мыслитель — американский экономист Джозеф Стиглиц исследовал, каким образом слабость регулирования и монополистические практики привели к тому, что экономисты называют извлечением ренты. Стиглиц рассматривает это явление как основной импульс, стоящий за возвышением 1% самых богатых американцев [Stiglitz 2012]. Для Стиглица данная рента является доходом, получаемым благодаря созданию для других предприятий таких препятствий, как барьеры для входа новых компаний в ту или иную отрасль, или же она оказывается результатом дерегулирования, позволившего финансовому сектору занять непропорционально большое место относительно остальной экономики. Исходя из этого, делается предположение, что при условии меньших барьеров для реализации экономической конкуренции произойдёт более равномерное распределение доходов.
Думаю, можно углубить этот основанный на противопоставлении «создателей» и «изымателей» анализ того, почему наша экономика с её вопиющими неравенствами в распределении доходов и богатства пошла по неправильному пути. Для понимания того, каким образом одни воспринимаются как «изымающие ценность» и выкачивающие богатство из национальных экономик, в то время как другие выступают «создателями богатства», но ничего от этого богатства не получают, недостаточно рассмотрения препятствий на пути идеализированной формы совершенной конкуренции. Однако магистральные идеи относительно категории ренты, в принципе, не оспаривают то, каким образом происходит изъятие ценности — и потому этот процесс устойчиво сохраняется.
Чтобы досконально разобраться с данными проблемами, необходимо выяснить, откуда изначально берётся ценность. Что именно изымается? Какие социальные, экономические и организационные условия необходимы для производства ценности? Даже на то, каким образом Стиглиц и Пикетти используют термин «рента» для анализа неравенства, влияет их представление о том, что такое ценность и что она репрезентирует. Является ли рента просто препятствием для «свободнорыночного» обмена? Или же определённые лица благодаря своим полномочиям способны получать «незаработанный доход», то есть порождённый манипуляциями с уже существующими активами, а не созданием новых? Таков главный вопрос, который будет рассмотрен в главе 2.
За счёт чего продолжает существовать вся эта алхимия? Привычная критика современного капитализма заключается в том, что он вознаграждает «искателей ренты», а не подлинных «создателей богатства». Под «погоней за рентой» в данном случае имеется в виду стремление генерировать доход не за счёт производства чего-либо нового, а путём установления наценки сверх «конкурентной цены» и подрыва конкуренции благодаря использованию отдельных преимуществ (в том числе в области труда) или, как в случае отраслей с крупными компаниями, за счёт способности этих последних блокировать доступ в свой сегмент других игроков и получения монопольного преимущества. Рентоориентированная деятельность часто рассматривается и в иных аспектах: «изыматели» выигрывают у «создателей», а «хищнический» капитализм побеждает капитализм «производительный». Всё это рассматривается в качестве ключевого способа — возможно, того самого ключевого способа, — с помощью которого 1% добился власти над 99%. Привычной мишенью подобной критики оказываются банки и прочие финансовые институты. Считается, что они получают прибыль от спекулятивных видов деятельности, в основе которых лежит принцип «купи дёшево — продай дорого», или от покупки и последующего «раздербанивания» производственных активов, чтобы затем вновь продать их без какой-либо реальной добавленной ценности.
Более тонкие аналитики связывали нарастающее неравенство с тем специфическим способом, каким «изыматели» увеличивали своё богатство. Французский экономист Томас Пикетти в своей влиятельной книге «Капитал в XXI веке» [Piketty 2014] сосредоточивается на неравенстве, формируемом хищнической финансовой индустрией при отсутствии должного её налогообложения, и на том, какими способами богатство наследуется из поколения в поколение, что даёт самым богатым изначальное преимущество для того, чтобы стать ещё богаче. Исследование Пикетти содержит ключ к пониманию того, почему коэффициент окупаемости по финансовым активам (которые он называет капиталом) оказался выше, чем коэффициент окупаемости капиталовложений в рост, и призывает к повышенному налогообложению проистекающих из данного обстоятельства богатств и наследств, чтобы остановить этот порочный круг. В идеале, с точки зрения Пикетти, подобные налоги должны быть всемирными, дабы избежать ситуации, когда одна страна ослабляет другую.
Ещё один ведущий мыслитель — американский экономист Джозеф Стиглиц исследовал, каким образом слабость регулирования и монополистические практики привели к тому, что экономисты называют извлечением ренты. Стиглиц рассматривает это явление как основной импульс, стоящий за возвышением 1% самых богатых американцев [Stiglitz 2012]. Для Стиглица данная рента является доходом, получаемым благодаря созданию для других предприятий таких препятствий, как барьеры для входа новых компаний в ту или иную отрасль, или же она оказывается результатом дерегулирования, позволившего финансовому сектору занять непропорционально большое место относительно остальной экономики. Исходя из этого, делается предположение, что при условии меньших барьеров для реализации экономической конкуренции произойдёт более равномерное распределение доходов.
Думаю, можно углубить этот основанный на противопоставлении «создателей» и «изымателей» анализ того, почему наша экономика с её вопиющими неравенствами в распределении доходов и богатства пошла по неправильному пути. Для понимания того, каким образом одни воспринимаются как «изымающие ценность» и выкачивающие богатство из национальных экономик, в то время как другие выступают «создателями богатства», но ничего от этого богатства не получают, недостаточно рассмотрения препятствий на пути идеализированной формы совершенной конкуренции. Однако магистральные идеи относительно категории ренты, в принципе, не оспаривают то, каким образом происходит изъятие ценности — и потому этот процесс устойчиво сохраняется.
Чтобы досконально разобраться с данными проблемами, необходимо выяснить, откуда изначально берётся ценность. Что именно изымается? Какие социальные, экономические и организационные условия необходимы для производства ценности? Даже на то, каким образом Стиглиц и Пикетти используют термин «рента» для анализа неравенства, влияет их представление о том, что такое ценность и что она репрезентирует. Является ли рента просто препятствием для «свободнорыночного» обмена? Или же определённые лица благодаря своим полномочиям способны получать «незаработанный доход», то есть порождённый манипуляциями с уже существующими активами, а не созданием новых? Таков главный вопрос, который будет рассмотрен в главе 2.
Даже консервативным силам понравилось играть на аналогах противопоставления изымателей и создателей: Митт Ромни называет свой частный инвестиционный фонд средоточием «создания богатства», одновременно отпуская множество замечаний в адрес тех паразитических элементов общества, которые изымают богатство с помощью государства всеобщего благосостояния [Monbiot 2012].
Журналистка Рана Форухар в своей недавно вышедшей прекрасной книге «Makers and Takers» («Создатели и изыматели») рассматривает способы, с помощью которых материальное производство оказалось подорвано ростом финансового сектора, обслуживающего самого себя, а также менеджеров в промышленности, работающих на решение задач финансового сектора, а не долгосрочного роста [Foroohar 2016].
Пока я писала эту книгу, с язвительной критикой современного финансового сектора, также основанной на понятии «незаработанный доход», выступил Майкл Хадсон; см.: [Hudson 2015].
Что такое ценность?
Понятию «ценность» можно давать разные определения, но, по существу, это производство новых товаров и услуг. Каким образом получаются эти непосредственные результаты (производство), как они распределяются в масштабах экономики (распределение) и что происходит с доходами, получаемыми от их производства (реинвестирование), — вот ключевые вопросы при определении экономической ценности. Кроме того, принципиально значим вопрос о полезности того, что создаётся: увеличивают ли — или, наоборот, понижают — создаваемые товары и услуги устойчивость конкретной производственной системы? Например, появление какого-нибудь нового завода может иметь экономическую ценность, но если его производство настолько грязное, что уничтожает окружающую среду, то его нельзя рассматривать как обладающий ценностью объект.
Под «созданием ценности» я понимаю способы, с помощью которых различные типы ресурсов (человеческие, материальные и неосязаемые) возникают и взаимодействуют с целью производства новых товаров и услуг. Под «изъятием ценности» я понимаю виды деятельности, сосредоточенные на манипуляции существующими ресурсами и продукцией и на извлечении непропорционально высоких доходов из проистекающих из этого торговых операций.
Здесь важно сделать одно предупреждение. В этой книге я использую слова «богатство» и «ценность» почти как взаимозаменяемые эквиваленты. Это может вызвать возражение у тех, кто рассматривает богатство как нечто, в большей степени имеющее монетарную природу, а ценность — как потенциально в большей степени социальный концепт, включающий не только [экономическую] ценность, но и ценности [в аксиологическом смысле]. Поэтому хотелось бы пояснить, каким образом используются два эти понятия. Понятие «ценность» я использую в смысле «процесса» создания богатства, ценность — это некий поток. Разумеется, этот поток претворяется в фактически существующие вещи, как осязаемые (кусок хлеба), так и неосязаемые (новое знание). Напротив, «богатство» рассматривается мною как совокупный объём уже созданной ценности. В центре этой книги находятся категория ценности и то, какие силы производят ценность, то есть сам процесс. Однако рассмотрены и вопросы, возникающие вокруг этого процесса, которые зачастую формулируются сквозь призму того, «кто» является создателем богатства. В этом смысле два названных понятия используются как эквиваленты друг друга.
Долгое время понятие «ценность» находилось в самом центре дискуссий об экономике, производстве и распределении порождаемого им дохода, при этом существовали здравые разногласия относительно того, что именно является действительным носителем ценности. Для некоторых направлений экономической мысли цена продуктов человеческой деятельности являлась результатом предложения и спроса, однако ценность этих продуктов проистекала из объёма труда, необходимого для их производства, из тех способов, какими на труд влияли технологические и организационные изменения, и из отношений между капиталом и трудом. В дальнейшем на смену акценту на «объективных» условиях производства, технологий и властных отношений пришли редкость и «преференции» экономических субъектов: объём предложения рабочей силы определяется предпочтением работника в пользу досуга вместо того, чтобы заработать больше денег. Иными словами, ценность стала субъективной.
До середины XIX века почти все экономисты предполагали также, что для понимания цен на товары и услуги требовалось прежде всего иметь объективную теорию ценности — теорию, связанную с условиями производства этих товаров и услуг, включавшую время, необходимое для их производства, качество используемой рабочей силы, — и факторы «ценности» действительно формировали цену товаров и услуг. Но затем такой подход стал разворачиваться в противоположном направлении. Многие экономисты пришли к убеждению, что ценность вещей определялась ценой, которую за них платили на «рынке», или, иными словами, тем, сколько был готов заплатить за них потребитель. Внезапно ценность стала определяться «на глаз». Любые товары и услуги, продаваемые по договорной рыночной цене, оказались по определению создающими ценность.
Переход от ценности, определяющей цену, к цене, определяющей ценность, совпал с крупными социальными изменениями в конце XIX века. Одним из этих изменений стал подъём социализма. Требования реформ со стороны его представителей отчасти были основаны на утверждении, что труд не получал справедливое вознаграждение за создаваемую им ценность. Из этого проистекала консолидация капиталистического класса производителей. Нет ничего удивительного, что эта группа была крайне заинтересована в альтернативной теории, согласно которой цена предопределяет ценность, что позволяло отстаивать присвоение ими большей части продукции, в результате чего труд все в большей степени оставался на обочине.
В интеллектуальной сфере экономисты стремились к тому, чтобы придать своей дисциплине более «научный» вид, сделав её более похожей на физику и в меньшей степени на социологию. В результате они стали обходиться без предшествующих политических и социальных коннотаций. Если работы Адама Смита (как и прежде возникшая мысль о функционировании экономики) были наполнены политическим и философским содержанием, то к началу XX века поле, на протяжении более 200 лет являвшееся «политической экономией», оказалось вычищено до просто «Экономикса» и рассказа о совершенно иной истории.
Дискуссия о различных теориях ценности и динамике её создания в самом деле фактически исчезла на экономических факультетах, проявляясь лишь в бизнес-школах в неких совершенно новых формах: «акционерная ценность (ценность для акционеров)» ( value) [Jensen, Meckling 1976: 308], «разделяемая (общая) ценность» (shared value) [Porter, Kramer 2011], «цепочки создания ценности» (value chains) [Porter 1985], «ценность в сравнении с ценой» ( for money), «определение ценности» (valuation),«добавление ценности» (adding value) и т. п. В результате, если раньше студенты- экономисты обычно получали насыщенное и разноплановое представление об идее ценности, изучая, как её приходилось постулировать различным школам экономической мысли, сегодня им преподают лишь то, что ценность определяется динамикой цены в зависимости от редкости и преференций. Всё это не преподносится как отдельная теория ценности (в качестве примера можно привести вводный курс «Экономикс 101»). Интеллектуально выхолощенная идея ценности просто берётся как готовое представление, которое по умолчанию следует принять как верное. При этом, как утверждается в моей книге, исчезновение категории ценности парадоксальным образом привело к тому, что сам ключевой термин «ценность» — понятие, лежащее в самом сердце экономической мысли, — стал более лёгким как для употребления, так и для злоупотребления каким угодно прикладным способом.
Под «созданием ценности» я понимаю способы, с помощью которых различные типы ресурсов (человеческие, материальные и неосязаемые) возникают и взаимодействуют с целью производства новых товаров и услуг. Под «изъятием ценности» я понимаю виды деятельности, сосредоточенные на манипуляции существующими ресурсами и продукцией и на извлечении непропорционально высоких доходов из проистекающих из этого торговых операций.
Здесь важно сделать одно предупреждение. В этой книге я использую слова «богатство» и «ценность» почти как взаимозаменяемые эквиваленты. Это может вызвать возражение у тех, кто рассматривает богатство как нечто, в большей степени имеющее монетарную природу, а ценность — как потенциально в большей степени социальный концепт, включающий не только [экономическую] ценность, но и ценности [в аксиологическом смысле]. Поэтому хотелось бы пояснить, каким образом используются два эти понятия. Понятие «ценность» я использую в смысле «процесса» создания богатства, ценность — это некий поток. Разумеется, этот поток претворяется в фактически существующие вещи, как осязаемые (кусок хлеба), так и неосязаемые (новое знание). Напротив, «богатство» рассматривается мною как совокупный объём уже созданной ценности. В центре этой книги находятся категория ценности и то, какие силы производят ценность, то есть сам процесс. Однако рассмотрены и вопросы, возникающие вокруг этого процесса, которые зачастую формулируются сквозь призму того, «кто» является создателем богатства. В этом смысле два названных понятия используются как эквиваленты друг друга.
Долгое время понятие «ценность» находилось в самом центре дискуссий об экономике, производстве и распределении порождаемого им дохода, при этом существовали здравые разногласия относительно того, что именно является действительным носителем ценности. Для некоторых направлений экономической мысли цена продуктов человеческой деятельности являлась результатом предложения и спроса, однако ценность этих продуктов проистекала из объёма труда, необходимого для их производства, из тех способов, какими на труд влияли технологические и организационные изменения, и из отношений между капиталом и трудом. В дальнейшем на смену акценту на «объективных» условиях производства, технологий и властных отношений пришли редкость и «преференции» экономических субъектов: объём предложения рабочей силы определяется предпочтением работника в пользу досуга вместо того, чтобы заработать больше денег. Иными словами, ценность стала субъективной.
До середины XIX века почти все экономисты предполагали также, что для понимания цен на товары и услуги требовалось прежде всего иметь объективную теорию ценности — теорию, связанную с условиями производства этих товаров и услуг, включавшую время, необходимое для их производства, качество используемой рабочей силы, — и факторы «ценности» действительно формировали цену товаров и услуг. Но затем такой подход стал разворачиваться в противоположном направлении. Многие экономисты пришли к убеждению, что ценность вещей определялась ценой, которую за них платили на «рынке», или, иными словами, тем, сколько был готов заплатить за них потребитель. Внезапно ценность стала определяться «на глаз». Любые товары и услуги, продаваемые по договорной рыночной цене, оказались по определению создающими ценность.
Переход от ценности, определяющей цену, к цене, определяющей ценность, совпал с крупными социальными изменениями в конце XIX века. Одним из этих изменений стал подъём социализма. Требования реформ со стороны его представителей отчасти были основаны на утверждении, что труд не получал справедливое вознаграждение за создаваемую им ценность. Из этого проистекала консолидация капиталистического класса производителей. Нет ничего удивительного, что эта группа была крайне заинтересована в альтернативной теории, согласно которой цена предопределяет ценность, что позволяло отстаивать присвоение ими большей части продукции, в результате чего труд все в большей степени оставался на обочине.
В интеллектуальной сфере экономисты стремились к тому, чтобы придать своей дисциплине более «научный» вид, сделав её более похожей на физику и в меньшей степени на социологию. В результате они стали обходиться без предшествующих политических и социальных коннотаций. Если работы Адама Смита (как и прежде возникшая мысль о функционировании экономики) были наполнены политическим и философским содержанием, то к началу XX века поле, на протяжении более 200 лет являвшееся «политической экономией», оказалось вычищено до просто «Экономикса» и рассказа о совершенно иной истории.
Дискуссия о различных теориях ценности и динамике её создания в самом деле фактически исчезла на экономических факультетах, проявляясь лишь в бизнес-школах в неких совершенно новых формах: «акционерная ценность (ценность для акционеров)» ( value) [Jensen, Meckling 1976: 308], «разделяемая (общая) ценность» (shared value) [Porter, Kramer 2011], «цепочки создания ценности» (value chains) [Porter 1985], «ценность в сравнении с ценой» ( for money), «определение ценности» (valuation),«добавление ценности» (adding value) и т. п. В результате, если раньше студенты- экономисты обычно получали насыщенное и разноплановое представление об идее ценности, изучая, как её приходилось постулировать различным школам экономической мысли, сегодня им преподают лишь то, что ценность определяется динамикой цены в зависимости от редкости и преференций. Всё это не преподносится как отдельная теория ценности (в качестве примера можно привести вводный курс «Экономикс 101»). Интеллектуально выхолощенная идея ценности просто берётся как готовое представление, которое по умолчанию следует принять как верное. При этом, как утверждается в моей книге, исчезновение категории ценности парадоксальным образом привело к тому, что сам ключевой термин «ценность» — понятие, лежащее в самом сердце экономической мысли, — стал более лёгким как для употребления, так и для злоупотребления каким угодно прикладным способом.
Разделяемая (общая) ценность — понятие, введённое в статье Майкла Ю. Портера и Марка Р. Крамера «Создание общей ценности: новое определение капитализма и роль корпорации в обществе», опубликованной в 2011 г. в журнале «Harvard Business Review». В статье прослеживалась связь между повышением конкурентоспособности компаний и социально-экономическим развитием общества в целом [Porter, Kramer 2011]. —Примеч. перев.
Популярный экспресс-курс экономической теории Альфреда Милла (Alfred Mill), изложенный в виде 101 урока. Полное название книги звучит как «Экономикс 101: от потребительского поведения до конкурентных рынков — всё, что вы хотели знать об экономической теории» («Economics 101: FromConsumer Behavior to Competitive Markets — Everything You Need to Know About Economics»). — Прымеч. перев.
Столкновение с пограничными барьерами сферы производства
Для понимания того, каким образом на протяжении столетий возникали различные теории ценности, стоит принять во внимание то, как и почему одни виды экономической деятельности получили название «производительных», а другие — «непроизводительных». Кроме того, необходимо учитывать, каким образом это разграничение повлияло на идеи о том, какого вознаграждения заслуживают соответствующие экономические субъекты (иными словами, каким образом распределяются выгоды от создания ценности).
Столетиями экономисты и политики — люди, занимающиеся планированием таких организационных структур, как правительство или предприятие, — разделяли виды деятельности в зависимости от того, производят они ценность или нет, то есть являются они производительными или непроизводительными. В результате между этими типами деятельности фактически появился некий рубеж, изображённый на рисунке 1 в виде забора, который формирует концептуальную границу, иногда именуемую термином «граница сферы производства» {production ) [United Nations 2009: 6]. Внутри этой границы находятся создатели богатства, а вне её — получатели выгод от этого богатства (beneficiaries), на которых оно распространяется потому, что либо они способны извлекать его с помощью рентоориентированных видов деятельности, как в случае обладания какой-либо монополией, либо богатство, созданное в сфере производства, перераспределяется в их пользу (например, политикой в области социального обеспечения). В понимании классических экономистов ренты представляли собой незаработанный доход и полностью оказывались за границей сферы производства. Напротив, прибыли представляли собой доходы, заработанные в результате производительной деятельности внутри этой границы.
Столетиями экономисты и политики — люди, занимающиеся планированием таких организационных структур, как правительство или предприятие, — разделяли виды деятельности в зависимости от того, производят они ценность или нет, то есть являются они производительными или непроизводительными. В результате между этими типами деятельности фактически появился некий рубеж, изображённый на рисунке 1 в виде забора, который формирует концептуальную границу, иногда именуемую термином «граница сферы производства» {production ) [United Nations 2009: 6]. Внутри этой границы находятся создатели богатства, а вне её — получатели выгод от этого богатства (beneficiaries), на которых оно распространяется потому, что либо они способны извлекать его с помощью рентоориентированных видов деятельности, как в случае обладания какой-либо монополией, либо богатство, созданное в сфере производства, перераспределяется в их пользу (например, политикой в области социального обеспечения). В понимании классических экономистов ренты представляли собой незаработанный доход и полностью оказывались за границей сферы производства. Напротив, прибыли представляли собой доходы, заработанные в результате производительной деятельности внутри этой границы.
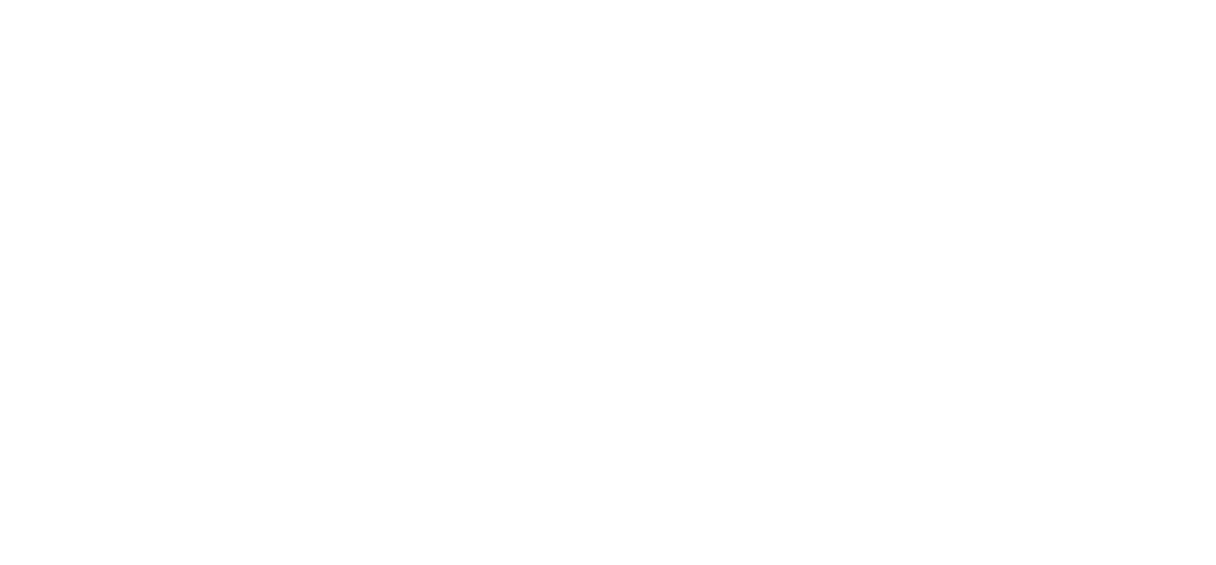
Исторически «забор», очерчивающий границу сферы производства, не был устойчивым; его форма и размер менялись вместе с изменением социальных и экономических сил. Эти изменения границы между создателями и изымателями можно одинаково чётко разглядеть и в прошлом, и в настоящем. В XVIII веке утверждение физиократов, представителей ранней школы экономической мысли, о «непроизводительных» землевладельцах вызвало бурные возмущения, ведь это было нападением на правящий класс Европы, которая на тот момент была преимущественно сельскохозяйственной территорией. Политически взрывоопасный вопрос заключался в том, являлись ли землевладельцы просто лицами, злоупотребляющими своим могуществом для извлечения части богатства, которое создаётся арендующими их землю фермерами, или же их вклад в виде земельного ресурса был принципиально важен для того способа, каким фермеры создавали богатство. В некоем новом виде этот спор о том, где проводить границу сферы производства, продолжается сегодня по отношению к финансовому сектору. После финансового кризиса 2008 года с самых разных сторон зазвучали сигналы о необходимости возрождения промышленной политики для поддержания «создателей» в индустриальной сфере, каковые воспринимались как нечто противоположное «изымателям» из сферы финансов. При этом говорилось о необходимости нового баланса для сокращения масштаба финансового сектора, попадающего в темно-серый круг непроизводительных видов деятельности на рисунке 1, при помощи налогообложения (например, в виде налога на такие финансовые трансакции, как валютные операции или торговля ценными бумагами), а также мер по поддержке промышленности для стимулирования роста в отраслях, которые действительно создавали осязаемые вещи вместо того, чтобы просто заниматься их обменом (см. рис. 1, где эти отрасли оказываются в светло-сером круге продуктивных видов деятельности).
Но не всё так просто. Суть дела не в том, чтобы заклеймить одних как изымателей, а другим присвоить имя создателей. Различные виды человеческой деятельности за пределами рассматриваемой границы могут быть необходимы для стимулирования производства — без них производительные виды деятельности могут оказаться не столь ценными. Торговцы нужны для того, чтобы обеспечивать доставку товаров к месту их продажи и эффективный товарообмен. Финансовый сектор принципиально нужен покупателям и продавцам для совместного ведения бизнеса. Подлинный вопрос поэтому заключается в том, какую форму должны принять все эти виды деятельности, чтобы служить цели производства ценности.
И самое важное: а что же государство? По какую сторону границы сферы производства оно находится? Является ли оно, как это часто утверждается, по своей природе непроизводительным (а единственным его заработком выступают обязательные перечисления в виде налогов с производительной части экономики)? Если это так, то каким образом государство может обеспечивать рост экономики? Или же оно в лучшем случае способно лишь устанавливать такие правила игры, чтобы создатели ценности могли действовать эффективно?
В самом деле, постоянно возобновляющийся спор об оптимальном размере государственных институтов и о гипотетических угрозах высокого государственного долга ограничивается обсуждением того, помогают ли правительственные расходы росту экономики (поскольку государство может быть производительным и создающим добавленную стоимость), или же государство как нечто непроизводительное выступает тормозом для экономики, а то и уничтожает ценность. Эта политически нагруженная тема придаёт специфический колорит текущим дискуссиям, которые простираются от вопроса о том, может ли Великобритания позволить себе ракетно-ядерную систему «Трезубец», до спора о том, существует ли некое «волшебное число» для оптимального масштаба государства, определяемого как такое отношение правительственных расходов к национальному производству, за пределами которого экономика неизбежно будет функционировать хуже, нежели в том случае, если правительственные расходы находятся на более низком уровне. Как мы увидим в главе 8, данный вопрос в большей степени испытывает пагубное влияние политических взглядов и идеологических позиций, нежели основывается на глубоких научных доказательствах. Действительно, важно помнить о том, что экономика является ядром социального знания, так что «естественный» масштаб государства будет зависеть от того, с какой теорией (или просто «позицией») подходить к вопросу о ключевой цели государства. Если государство рассматривается как нечто бесполезное или в лучшем случае как инструмент решения возникающих время от времени проблем, то его оптимальный масштаб неизбежно окажется принципиально меньше, чем в том случае, если государство рассматривается как ключевой механизм роста, необходимый для управления процессом создания ценности и инвестирования в него.
С течением времени умозрительная граница сферы производства расширялась, охватывая гораздо большую часть экономики и более разноплановые виды экономической деятельности, чем прежде.
Когда экономисты и, шире, общество в целом пришли к определению ценности через предложение и спрос (ценность имеет то, что продаётся), такие виды деятельности, как финансовые трансакции, стали определяться как производительные, хотя прежде они обычно классифицировались как непроизводительные. Примечательно, что единственной значительной частью экономики, которая, как принято считать, находится главным образом вне границы сферы производства и, как следствие, оказывается «непроизводительной», остаётся государство. Верно и то, что многие другие услуги, которые люди оказывают в любом сегменте общества, остаются неоплачиваемыми (например, уход родителей за детьми или здоровых за больными) и плохо подсчитываются. К счастью, такие темы, как пофакторный подход к способу измерения национального производства (ВВП), приобретают всё большую актуальность. Но, помимо добавления к ВВП новых понятий, таких как уход или устойчивость всей планеты, принципиально важно понимать, почему мы придерживаемся тех представлений о ценности, которые у нас есть, — а это невозможно сделать без тщательного рассмотрения самой категории ценности.
Но не всё так просто. Суть дела не в том, чтобы заклеймить одних как изымателей, а другим присвоить имя создателей. Различные виды человеческой деятельности за пределами рассматриваемой границы могут быть необходимы для стимулирования производства — без них производительные виды деятельности могут оказаться не столь ценными. Торговцы нужны для того, чтобы обеспечивать доставку товаров к месту их продажи и эффективный товарообмен. Финансовый сектор принципиально нужен покупателям и продавцам для совместного ведения бизнеса. Подлинный вопрос поэтому заключается в том, какую форму должны принять все эти виды деятельности, чтобы служить цели производства ценности.
И самое важное: а что же государство? По какую сторону границы сферы производства оно находится? Является ли оно, как это часто утверждается, по своей природе непроизводительным (а единственным его заработком выступают обязательные перечисления в виде налогов с производительной части экономики)? Если это так, то каким образом государство может обеспечивать рост экономики? Или же оно в лучшем случае способно лишь устанавливать такие правила игры, чтобы создатели ценности могли действовать эффективно?
В самом деле, постоянно возобновляющийся спор об оптимальном размере государственных институтов и о гипотетических угрозах высокого государственного долга ограничивается обсуждением того, помогают ли правительственные расходы росту экономики (поскольку государство может быть производительным и создающим добавленную стоимость), или же государство как нечто непроизводительное выступает тормозом для экономики, а то и уничтожает ценность. Эта политически нагруженная тема придаёт специфический колорит текущим дискуссиям, которые простираются от вопроса о том, может ли Великобритания позволить себе ракетно-ядерную систему «Трезубец», до спора о том, существует ли некое «волшебное число» для оптимального масштаба государства, определяемого как такое отношение правительственных расходов к национальному производству, за пределами которого экономика неизбежно будет функционировать хуже, нежели в том случае, если правительственные расходы находятся на более низком уровне. Как мы увидим в главе 8, данный вопрос в большей степени испытывает пагубное влияние политических взглядов и идеологических позиций, нежели основывается на глубоких научных доказательствах. Действительно, важно помнить о том, что экономика является ядром социального знания, так что «естественный» масштаб государства будет зависеть от того, с какой теорией (или просто «позицией») подходить к вопросу о ключевой цели государства. Если государство рассматривается как нечто бесполезное или в лучшем случае как инструмент решения возникающих время от времени проблем, то его оптимальный масштаб неизбежно окажется принципиально меньше, чем в том случае, если государство рассматривается как ключевой механизм роста, необходимый для управления процессом создания ценности и инвестирования в него.
С течением времени умозрительная граница сферы производства расширялась, охватывая гораздо большую часть экономики и более разноплановые виды экономической деятельности, чем прежде.
Когда экономисты и, шире, общество в целом пришли к определению ценности через предложение и спрос (ценность имеет то, что продаётся), такие виды деятельности, как финансовые трансакции, стали определяться как производительные, хотя прежде они обычно классифицировались как непроизводительные. Примечательно, что единственной значительной частью экономики, которая, как принято считать, находится главным образом вне границы сферы производства и, как следствие, оказывается «непроизводительной», остаётся государство. Верно и то, что многие другие услуги, которые люди оказывают в любом сегменте общества, остаются неоплачиваемыми (например, уход родителей за детьми или здоровых за больными) и плохо подсчитываются. К счастью, такие темы, как пофакторный подход к способу измерения национального производства (ВВП), приобретают всё большую актуальность. Но, помимо добавления к ВВП новых понятий, таких как уход или устойчивость всей планеты, принципиально важно понимать, почему мы придерживаемся тех представлений о ценности, которые у нас есть, — а это невозможно сделать без тщательного рассмотрения самой категории ценности.
Имеется в виду затяжной спор в парламенте Великобритании о поддержке программы модернизации системы «Трезубец» («Trident») — баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. Дебаты завершились решением депутатов утвердить модернизацию на сумму 31 млрд фунтов стерлингов. Однако вскоре после этого разразился скандал, когда СМИ выяснили, что за несколько дней до голосования произошли неудачные испытания ракеты Trident IID5, хотя в парламенте говорилось, что они были успешными. — Примеч. перев.
Почему теория ценности имеет значение?
Прежде всего, сам факт исчезновения категории ценности из экономических дебатов означает сокрытие того, что должно быть живым, публичным и активно дискутируемым. Если допущение, что ценность определяется «на глаз», не оспаривается, то одни виды деятельности в таком случае неизбежно окажутся создающими ценность, а другие — нет просто потому, что некто, имея, как правило, в этом материальный интерес, так утверждает (возможно, убедительнее, чем другие). Те или иные виды деятельности могут перескакивать с одной стороны границы сферы производства на другую с помощью одного клика мышки, и едва ли это кто-то замечает. Когда банкиры, риелторы и букмекеры заявляют, что создают стоимость, а не изымают её, представители магистрального направления экономической науки не предлагают никакого основания для того, чтобы оспорить это, даже несмотря на то, что публика может относиться к подобным претензиям скептически. Кто способен возразить Ллойду Бланк- фейну, если он утверждает, что сотрудники Goldman Sachs входят в число самых производительных людей на свете, или фармацевтическим компаниям, заявляющим, что запредельно высокая цена на какой-нибудь из их препаратов объясняется порождаемой им ценностью? Истории о создании богатства могут убеждать (или «захватывать») правительственных чиновников, как это недавно продемонстрировало одобрение правительством США курсов лекарственного лечения лейкемии стоимостью полмиллиона долларов, обоснованное именно продвигаемой фармацевтической индустрией моделью «ценообразования на основе ценности» — это произошло даже невзирая на то, что вклад налогоплательщика в создание соответствующего препарата составил 200 млн долларов.
Кроме того, отсутствие анализа ценности имеет масштабные последствия для одной конкретной сферы — для распределения доходов между разными членами общества. Когда ценность предопределяется ценой (а не наоборот), уровень и распределение доходов представляются обоснованными постольку, поскольку существует рынок товаров и услуг, который порождает эти доходы в процессе покупки и продажи. В соответствии с этой логикой все доходы являются заработанными, любой анализ с точки зрения их производительности или непроизводительности при этом исчезает.
Однако данное объяснение представляет собой порочный логический круг, замкнутую петлю. Доходы обосновываются с помощью производства чего-либо, что имеет ценность. Но как мы измеряем ценность? По тому, приносит ли она доход. Вы зарабатываете доход, потому что вы производительны; вы производительны, потому что вы зарабатываете доход. В результате, как по мановению волшебной палочки, исчезает понятие «незаработанный доход». Если доход предполагает нашу производительность и мы заслуживаем доход всякий раз, когда мы производительны, то как в таком случае доход может оказаться незаработанным? В главе 3 мы увидим, что данное круговое объяснение нашло отражение в том, каким образом формируются национальные счета, отслеживающие и измеряющие производство и богатство в отдельно взятой экономике. В теории ни о каком доходе нельзя утверждать, что он слишком высок, поскольку в рыночной экономике конкуренция не допускает, что кто-либо зарабатывает больше, чем заслуживает. На практике же рынки, как выражаются экономисты, имеют несовершенный характер, и в результате цены и заработные платы зачастую устанавливаются сильными, а соответствующие расходы несут слабые.
С преобладающей сегодня точки зрения, цены устанавливаются предложением и спросом, и любое отклонение от того, что считается конкурентной ценой (основанной на предельном доходе), должно объясняться тем или иным несовершенством, при исправлении которого произойдёт правильное распределение дохода между экономическими субъектами. При этом практически не обсуждается возможность того, что некоторые виды деятельности постоянно приносят рентный доход, поскольку они воспринимаются как ценные, хотя в действительности препятствуют созданию ценности и (или) уничтожают уже существующую ценность.
В самом деле, для экономистов больше не существует иного объяснения, помимо субъективной теории ценности, где рынком движут предложение и спрос, и как только препятствия для конкуренции устранены, результат должен пойти на пользу всем. При этом не ставится вопрос о том, каким образом разные представления о ценности могут влиять на распределение доходов между работниками, органами публичного управления, менеджерами и акционерами, скажем, в таких компаниях, как Google, General Electric или ВАЕ Systems.
Наконец, политики, пытаясь направлять экономику в том или ином направлении, неизбежно находятся под влиянием идей о ценности, признают они это или нет. Очевидно, что в мире, где миллиарды людей продолжают жить в крайней бедности, уровень роста ВВП является важным показателем. Однако ряд наиболее значимых экономических вопросов сегодня связанны с тем, каким образом достичь особого типа роста. Сейчас много говорится о необходимости сделать рост «более умным» (определяемым инвестициями в инновации), более устойчивым (более «зелёным») и более инклюзивным (порождающим меньше неравенства).
Вопреки широко распространённому предположению о том, что у политики не должно быть конкретного направления, она должна быть направлена просто на устранение барьеров и фокусироваться на «создании равных правил игры» для бизнеса, для достижения указанных конкретных целей требуется немало политических действий. Сам по себе каким-то чудесным образом рост в эту сторону не пойдёт. Чтобы изменить правила игры в том направлении, которое мы считаем желательным, требуются иные виды политики. Это, повторим, очень отличается от привычного предположения, что политика не должна иметь конкретных направлений и должна просто устранять барьеры, в результате чего бизнес сможет приступить к производству в комфортных для себя условиях.
Принципиальным для определения того или иного направления [движения] экономики является решение о том, какие виды деятельности более важны, а какие менее. Проще говоря, нужно наращивать те виды деятельности, которые окажутся значимыми для достижения конкретных целей, а менее важные для этого виды деятельности необходимо сокращать. И это уже делается. Определённые типы налоговых вычетов, например, для сферы исследований и разработок (R & D), представляют собой попытку простимулировать больший объём инвестиций в инновации. Субсидируются образование и профессиональная подготовка студентов, поскольку общество хотело бы, чтобы больше молодых людей шли учиться в университеты и пополняли ряды рабочей силы с более квалифицированными навыками. За подобными мерами могут скрываться экономические модели, которые демонстрируют, как инвестиции в «человеческий капитал» — знания и способности людей — благоприятствуют росту той или иной страны, повышая её производительные способности. Аналогичным образом нарастающая сегодня озабоченность тем, что финансовый сектор в ряде стран стал слишком большим (в сравнении, скажем, с производственным), может проистекать из теоретических представлений о том, в рамках какого типа экономики мы хотели бы жить, и о размере и роли финансов в нём.
Однако различение производительных и непроизводительных видов деятельности редко было результатом «научных» измерений. Скорее, наделение чего-либо ценностью — или её отсутствием — всегда подразумевало гибкие социально-экономические аргументы, следующие из определённой политической точки зрения, которая в одних случаях явно выражена, а в других нет. Определение ценности всегда в той же мере связано с политикой и конкретными представлениями о том, как должно быть сконструировано общество, что и с экономикой в узком смысле этого понятия. Измерения не являются чем-то нейтральным: они воздействуют на поведение, и наоборот (в данном случае перед нами та же идея перформативности, о которой мы уже говорили в этом предисловии).
Таким образом, суть дела не в том, чтобы создать совершенный барьер, который вешает на одни виды деятельности ярлык производительных, а другие классифицирует как непроизводительную погоню за рентой. Не сомневаюсь, что вместо этого мы должны решительнее связывать наше понимание того, как создаётся ценность, с тем способом, каким должна выстраиваться структура различных видов деятельности (будь то в финансах или в реальной экономике), и как это связано с распределением порождаемых доходов. Лишь таким образом нынешний нарратив относительно создания ценности будет подвержен более тщательной проверке, а утверждения в духе: «Я создатель богатства», — будут соотнесены с достоверными идеями о том, откуда это богатство берётся. В таком случае используемая фармацевтическими компаниями модель ценообразования на основе ценности может быть тщательно рассмотрена с учётом процесса коллективного создания ценности, в рамках которого значительная часть приносящих доходы компаниям фармацевтических исследований на высокорисковой стадии финансируется за счёт государственных средств. Аналогичным образом та 20-процентная доля, обычно получаемая венчурными капиталистами, когда небольшая высокотехнологичная компания становится публичной, выходя на фондовый рынок, может считаться чрезмерной в свете подлинных, а не мифических рисков, которые берут на себя эти капиталисты, инвестируя в развитие данной компании. А если некий инвестиционный банк получает громадную прибыль на нестабильности валютных курсов, воздействующей на ту или иную страну, эту прибыль можно считать тем, чем она в действительности и является, — рентой.
Но для того, чтобы прийти к такому пониманию создания ценности, необходимо выйти за рамки кажущихся научными классификаций видов деятельности и взглянуть на лежащие в их основе социально- экономические и политические конфликты. В действительности притязания на создание ценности всегда были связаны с утверждениями о сравнительной производительности определённых групп общества, зачастую имевших отношение к фундаментальным сдвигам в лежащей в их основе экономике — от сельского хозяйства к промышленности или от экономики, ориентированной на массовое производство, к экономике, основанной на цифровых технологиях.
Кроме того, отсутствие анализа ценности имеет масштабные последствия для одной конкретной сферы — для распределения доходов между разными членами общества. Когда ценность предопределяется ценой (а не наоборот), уровень и распределение доходов представляются обоснованными постольку, поскольку существует рынок товаров и услуг, который порождает эти доходы в процессе покупки и продажи. В соответствии с этой логикой все доходы являются заработанными, любой анализ с точки зрения их производительности или непроизводительности при этом исчезает.
Однако данное объяснение представляет собой порочный логический круг, замкнутую петлю. Доходы обосновываются с помощью производства чего-либо, что имеет ценность. Но как мы измеряем ценность? По тому, приносит ли она доход. Вы зарабатываете доход, потому что вы производительны; вы производительны, потому что вы зарабатываете доход. В результате, как по мановению волшебной палочки, исчезает понятие «незаработанный доход». Если доход предполагает нашу производительность и мы заслуживаем доход всякий раз, когда мы производительны, то как в таком случае доход может оказаться незаработанным? В главе 3 мы увидим, что данное круговое объяснение нашло отражение в том, каким образом формируются национальные счета, отслеживающие и измеряющие производство и богатство в отдельно взятой экономике. В теории ни о каком доходе нельзя утверждать, что он слишком высок, поскольку в рыночной экономике конкуренция не допускает, что кто-либо зарабатывает больше, чем заслуживает. На практике же рынки, как выражаются экономисты, имеют несовершенный характер, и в результате цены и заработные платы зачастую устанавливаются сильными, а соответствующие расходы несут слабые.
С преобладающей сегодня точки зрения, цены устанавливаются предложением и спросом, и любое отклонение от того, что считается конкурентной ценой (основанной на предельном доходе), должно объясняться тем или иным несовершенством, при исправлении которого произойдёт правильное распределение дохода между экономическими субъектами. При этом практически не обсуждается возможность того, что некоторые виды деятельности постоянно приносят рентный доход, поскольку они воспринимаются как ценные, хотя в действительности препятствуют созданию ценности и (или) уничтожают уже существующую ценность.
В самом деле, для экономистов больше не существует иного объяснения, помимо субъективной теории ценности, где рынком движут предложение и спрос, и как только препятствия для конкуренции устранены, результат должен пойти на пользу всем. При этом не ставится вопрос о том, каким образом разные представления о ценности могут влиять на распределение доходов между работниками, органами публичного управления, менеджерами и акционерами, скажем, в таких компаниях, как Google, General Electric или ВАЕ Systems.
Наконец, политики, пытаясь направлять экономику в том или ином направлении, неизбежно находятся под влиянием идей о ценности, признают они это или нет. Очевидно, что в мире, где миллиарды людей продолжают жить в крайней бедности, уровень роста ВВП является важным показателем. Однако ряд наиболее значимых экономических вопросов сегодня связанны с тем, каким образом достичь особого типа роста. Сейчас много говорится о необходимости сделать рост «более умным» (определяемым инвестициями в инновации), более устойчивым (более «зелёным») и более инклюзивным (порождающим меньше неравенства).
Вопреки широко распространённому предположению о том, что у политики не должно быть конкретного направления, она должна быть направлена просто на устранение барьеров и фокусироваться на «создании равных правил игры» для бизнеса, для достижения указанных конкретных целей требуется немало политических действий. Сам по себе каким-то чудесным образом рост в эту сторону не пойдёт. Чтобы изменить правила игры в том направлении, которое мы считаем желательным, требуются иные виды политики. Это, повторим, очень отличается от привычного предположения, что политика не должна иметь конкретных направлений и должна просто устранять барьеры, в результате чего бизнес сможет приступить к производству в комфортных для себя условиях.
Принципиальным для определения того или иного направления [движения] экономики является решение о том, какие виды деятельности более важны, а какие менее. Проще говоря, нужно наращивать те виды деятельности, которые окажутся значимыми для достижения конкретных целей, а менее важные для этого виды деятельности необходимо сокращать. И это уже делается. Определённые типы налоговых вычетов, например, для сферы исследований и разработок (R & D), представляют собой попытку простимулировать больший объём инвестиций в инновации. Субсидируются образование и профессиональная подготовка студентов, поскольку общество хотело бы, чтобы больше молодых людей шли учиться в университеты и пополняли ряды рабочей силы с более квалифицированными навыками. За подобными мерами могут скрываться экономические модели, которые демонстрируют, как инвестиции в «человеческий капитал» — знания и способности людей — благоприятствуют росту той или иной страны, повышая её производительные способности. Аналогичным образом нарастающая сегодня озабоченность тем, что финансовый сектор в ряде стран стал слишком большим (в сравнении, скажем, с производственным), может проистекать из теоретических представлений о том, в рамках какого типа экономики мы хотели бы жить, и о размере и роли финансов в нём.
Однако различение производительных и непроизводительных видов деятельности редко было результатом «научных» измерений. Скорее, наделение чего-либо ценностью — или её отсутствием — всегда подразумевало гибкие социально-экономические аргументы, следующие из определённой политической точки зрения, которая в одних случаях явно выражена, а в других нет. Определение ценности всегда в той же мере связано с политикой и конкретными представлениями о том, как должно быть сконструировано общество, что и с экономикой в узком смысле этого понятия. Измерения не являются чем-то нейтральным: они воздействуют на поведение, и наоборот (в данном случае перед нами та же идея перформативности, о которой мы уже говорили в этом предисловии).
Таким образом, суть дела не в том, чтобы создать совершенный барьер, который вешает на одни виды деятельности ярлык производительных, а другие классифицирует как непроизводительную погоню за рентой. Не сомневаюсь, что вместо этого мы должны решительнее связывать наше понимание того, как создаётся ценность, с тем способом, каким должна выстраиваться структура различных видов деятельности (будь то в финансах или в реальной экономике), и как это связано с распределением порождаемых доходов. Лишь таким образом нынешний нарратив относительно создания ценности будет подвержен более тщательной проверке, а утверждения в духе: «Я создатель богатства», — будут соотнесены с достоверными идеями о том, откуда это богатство берётся. В таком случае используемая фармацевтическими компаниями модель ценообразования на основе ценности может быть тщательно рассмотрена с учётом процесса коллективного создания ценности, в рамках которого значительная часть приносящих доходы компаниям фармацевтических исследований на высокорисковой стадии финансируется за счёт государственных средств. Аналогичным образом та 20-процентная доля, обычно получаемая венчурными капиталистами, когда небольшая высокотехнологичная компания становится публичной, выходя на фондовый рынок, может считаться чрезмерной в свете подлинных, а не мифических рисков, которые берут на себя эти капиталисты, инвестируя в развитие данной компании. А если некий инвестиционный банк получает громадную прибыль на нестабильности валютных курсов, воздействующей на ту или иную страну, эту прибыль можно считать тем, чем она в действительности и является, — рентой.
Но для того, чтобы прийти к такому пониманию создания ценности, необходимо выйти за рамки кажущихся научными классификаций видов деятельности и взглянуть на лежащие в их основе социально- экономические и политические конфликты. В действительности притязания на создание ценности всегда были связаны с утверждениями о сравнительной производительности определённых групп общества, зачастую имевших отношение к фундаментальным сдвигам в лежащей в их основе экономике — от сельского хозяйства к промышленности или от экономики, ориентированной на массовое производство, к экономике, основанной на цифровых технологиях.
Принципиально не следует понимать данное утверждение в том смысле, что иные формы обсуждения категории ценности в экономике не являются важными. См. прекрасную дискуссию об «общественной ценности» в экономике в кн.: [Bozeman2007], а также о воздействиях на ВВП: [Stiglitz, Sen, Fitoussi 2010]; о вопросах морали и этики в либеральной мысли: [Gaus 1990]. Однако основной идеей данной книги является акцент именно на том, каким образом экономические измерения ценности в производстве фундаментально изменили возможность различать создателей и изымателей ценности, а следовательно — на различии между рентными доходами и прибылями, что, как мы увидим в главе 2, иначе влияет на ВВП, нежели проблемы, выявленные у Стиглица.
Структура книги
В главах 1 и 2 рассмотрено, каким образом экономисты начиная с XVII века рассуждали об управлении ростом при помощи наращивания производительных видов деятельности и сокращения непроизводительных. Это представление концептуализировалось через теоретическую границу сферы производства. Дискуссия об этой границе и её тесная связь с идеями о категории ценности на столетия вперёд повлияли на принимаемые государством меры стимулирования экономического роста, но и сама граница сферы производства менялась под влиянием неустойчивых социальных, экономических и политических условий. В главе 2 внимательно рассмотрен самый значительный из этих сдвигов. Начиная со второй половины XIX века категория ценности из объективной превратилась в более субъективную, привязанную к индивидуальным преференциям. Данная революция имела тектонические последствия. Произошло размывание границы сферы производства как таковой, поскольку почти всё, что могло обладать ценой или с успехом претендовать на создание ценности (например, финансы), внезапно оказалось производительным. Создалась возможность для увеличения неравенства, стимулируемого отдельными экономическими субъектами, способными похвастаться своей исключительной «производительностью».
Как показано в главе 3, где рассматривается развитие систем национальных счетов, идея границы сферы производства продолжает воздействовать на понятие «выпуск продукции» (output). Однако есть фундаментальное различие между этой новой границей и её предшествующими формами. Сегодня решения относительно того, что именно составляет ценность в рамках национальных счетов, принимаются путём смешения различных элементов: во-первых, это всё, чему можно законно назначить цену и обменять; во-вторых, присутствуют прагматичные политические решения, такие как учет технологических изменений в компьютерной индустрии или неприлично большой размер финансового сектора; наконец, в-третьих, есть практическая необходимость в поддержании управляемости подсчётами в очень крупных и сложных современных экономиках. Все это, конечно, замечательно, однако тот факт, что дискуссия о границе сферы производства больше не носит определённый характер и не имеет явной связи с идеями по поводу категории ценности, означает, что экономические субъекты способны — путём последовательных лоббистских усилий — незаметно располагаться внутри этой границы. В этом случае их деятельность по изъятию ценности учитывается в ВВП, и очень мало кто это замечает.
В главах 4, 5 и 6 исследуется феномен финансиализации — роста финансового сектора и распространения финансовых практик и подходов на реальную экономику. В главе 4 я прослеживаю возникновение финансов в качестве масштабного сектора экономики и то, как финансы, чаще всего считавшиеся непроизводительным видом деятельности, стали признаваться видом деятельности преимущественно производительным. Ещё в 1960-х гг. составители национальных счетов рассматривали финансовую деятельность просто как перемещение уже существующей ценности, а не порождение новой ценности, и это помещало финансы за пределами границы сферы производства. Сегодня подобное представление претерпело принципиальные изменения. В нынешнем своём воплощении финансы интерпретируются как получение прибылей от услуг, которые стали классифицироваться как производительные. Я анализирую, как и почему произошло это невероятное переопределение, и ставлю вопрос о том, действительно ли финансовое посредничество трансформировалось в безусловно производительную деятельность.
В главе 5 речь идёт о развитии «капитализма, управляющего активами», о том, каким образом финансовый сектор распространился за рамки банков, включив большое количество посредников, занимающихся управлением средствами (индустрию управления активами). Я ставлю вопрос о том, оправдывает ли роль этих посредников и подлинные риски, которые они на себя берут, получаемые ими вознаграждения. Тем самым даётся критическая оценка того, каким был масштаб подлинного вклада управления средствами и частного акционерного капитала в производительную экономику. Кроме того, я задаюсь вопросом о том, возможно ли сегодня взяться за реформирование финансового сектора без серьёзной дискуссии о том, правильно ли классифицированы виды деятельности в нем — не являются ли они тем, что следует рассматривать как рентные доходы, а не как прибыли? — и каким образом можно приступить к этому разделению. Если наши системы национальных счетов действительно жалуют изъятие ценности так, как будто это её создание, то это, возможно, поспособствует пониманию динамики уничтожения ценности, которая характеризовала недавний финансовый кризис.
Исходя из описанного признания за финансами статуса производительного вида деятельности, в главе 6 рассмотрена финансиализация экономики в целом. Краткосрочные финансовые операции, нацеленные на быстрый возврат средств, оказали влияние на промышленность: управление компаниями осуществляется в целях максимизации акционерной ценности (ценности для акционеров). Данная стратегия возникла в 1970-е гг. в попытке реанимировать эффективность корпораций с помощью того, что называлось главной целью конкретной компании — создания ценности для её акционеров. Однако, как будет показано, эта стратегия оказалась пагубной для устойчивого экономического роста, не в последнюю очередь потому, что она стимулирует краткосрочную выгоду для акционеров в ущерб долгосрочным выгодам для компании: подобный путь развития тесно связан с возрастающим влиянием управляющих средствами, которые стремятся к доходам для своих клиентов и для себя самих. В основе максимизации акционерной ценности лежит представление о том, что наибольшие риски берут на себя именно акционеры, заслуживающие тех крупных вознаграждений, которые они зачастую получают.
Принятие на себя рисков зачастую выступает обоснованием тех вознаграждений, которые извлекают инвесторы, и в главе 7 содержится дальнейшее рассмотрение других типов изъятия ценности, осуществляемых во имя этого. В данном случае я имею в виду тот особый тип принятия рисков, который требуется для того, чтобы состоялись радикальные технологические инновации. Несомненно, инновационная деятельность является одной из наиболее рискованных и неопределённых в рамках капитализма, и большинство соответствующих попыток терпят неудачу. Но кто принимает этот вызов? Какого рода стимулы должны для этого создаваться? Здесь я обращаюсь к той необъективной оценке, которая присутствует в сегодняшнем инновационном нарративе, то есть к тому, как не берётся в расчёт принятие на себя рисков государственным сектором, когда государство рассматривается лишь как поддерживающее частный сектор и «снимающее риски». Результатом этого стал комплекс мер, включавший реформирование системы прав интеллектуальной собственности, которое усилило могущество лидеров в данной сфере, ограничило инновационный процесс и породило такое явление, как «непроизводительное предпринимательство» [Baumol 1990]. Основываясь на своей предшествующей книге «Предпринимательское государство», я продемонстрирую, каким образом произошла раскрутка образа предпринимателей и венчурных капиталистов в качестве представителей наиболее динамичной части современного капитализма — инновационного процесса — и как эти лица заявляли о себе в качестве «создателей богатства». Я тщательно проанализирую этот рассказ о создании богатства и покажу, что он является ложным. Заявление, что ценность заключается в инновациях (в самом последнем изводе речь идёт о понятии «платформы» и связанной с ними идеей шеринг-экономики), в меньшей степени относится к подлинным инновациям и в большей степени — к изъятию ценности за счёт получения рентных доходов.
Развивая тему ложного инновационного нарратива, в главе 8 я задаюсь вопросом о том, почему государственный сектор всегда описывается как медлительный, тягомотный, бюрократичный и непроизводительный. Откуда взялось данное описание и кому оно выгодно? Как будет показано, государственный сектор стал представляться непроизводительным точно таким же образом и в то же самое время, когда производительным оказался финансовый сектор. Современная экономическая мысль низвела роль государства лишь до исправления провалов рынка вместо активного создания и формирования рынков. Полагаю, что роль государственного сектора в создании ценности была недооценена. Преобладающая точка зрения, возникшая в рамках негативной реакции на государство в 1980-х гг., принципиально влияет на представления государства о самом себе: оно видит себя колеблющимся, осторожным, заботящимся о том, чтобы не злоупотребить своими полномочиями в том случае, если за этим последуют обвинения в создании проблем для инноваций или обвинения в фаворитизме, в «ставке на победителей». Рассматривая то, почему деятельность государственного сектора не учитывается при подсчёте ВВП, я ставлю вопрос о том, почему она должна иметь значение, и очерчиваю некий иной возможный взгляд на ценность государственного сектора.
В главе 9 я прихожу к заключению, что лишь открытая дискуссия о ценности — её источниках и порождающих её условиях — поможет нашим экономикам двинуться в том направлении, генерирующем больше подлинных инноваций и меньше неравенства, а заодно и трансформирует финансовый сектор в такую часть экономики, которая действительно сосредоточена на помощи созданию ценности в реальной экономике. Недостаточно критиковать спекуляции и изъятие ценности на краткосрочном горизонте, а также приводить доводы в пользу более прогрессивной налоговой системы, чьей мишенью является богатство. Подобную критику нужно обосновывать с помощью иного дискурса о создании ценности. В противном случае программы реформ вновь принесут незначительный эффект и будут легко отвергнуты лоббистскими усилиями так называемых «создателей богатства».
Эта книга не является попыткой отстоять какую-то одну истинную теорию ценности. Скорее, её задача — снова сделать теорию ценности темой, вокруг которой ведутся жаркие дебаты, темой, значимой для времён экономической турбулентности, внутри которой мы находимся. Ценность не является чем- то заданным, чем-то безошибочно помещаемым либо внутри, либо вне границы сферы производства; ценность формируется и создаётся. По моему мнению, финансовый сектор сегодня стимулирует не те отрасли, где он имел значение в качестве сферы, «смазывающей» колеса торговли, а другие отдельные части самого финансового сектора. Таким образом, он находится за пределами границы сферы производства, даже несмотря на то, что формально считается находящимся внутри неё. Но так не должно быть, ведь мы можем формировать финансовые рынки таким образом, чтобы они действительно оказывались в пределах этой границы. Это предполагало бы как новые финансовые институты, чьей задачей является предоставление займов организациям, заинтересованным в долгосрочных высокорисковых инвестициях, способных помочь стимулированию более инновационной экономики, так и изменение инструментов налогообложения в пользу долгосрочных инвестиций перед краткосрочными. Аналогично тому, как показано в главе 7, изменения в нынешнем непроизводительном использовании патентов могли бы помочь им в стимулировании инновационного процесса, а не в подавлении его.
Для создания более справедливой экономики, в которой процветание станет доступным большему количеству людей, а следовательно, будет более устойчивым, необходимо придать новые силы серьёзной дискуссии о природе и происхождении ценности. Мы должны пересмотреть рассказываемые нами истории о том, кто является создателями ценности и каким образом мы определяем разные виды деятельности как экономически производительные и непроизводительные. Прогрессивную политику невозможно ограничивать налогообложением богатства; она требует нового понимания и обсуждения того, как создаётся ценность, в связи с чем такая политика вызывает более яростное и неприкрытое противодействие. Слова имеют значение — нам нужен новый словарь для политических действий. Политика — это не только про «интервенции». Предметом политики является формирование иного будущего, совместное создание рынков и ценности, а не просто «настройка» рынков или перераспределение стоимости, принятие рисков, а не «устранение рисков». Кроме того, политика не должна сводиться к пресловутому выравниванию правил игры, а должна подталкивать эти правила в направлении желательного для нас типа экономики.
Представление о том, что мы можем задавать для рынков определённую форму, имеет важные последствия. Мы способны создавать более надёжную экономику, понимая, что рынки являются результатом решений, принимаемых бизнесом, государственными организациями и гражданским обществом. Восьмичасовой рабочий день сформировал различные рынки — и это был результат борьбы профсоюзов. Возможно, причина того отчаяния, которого сейчас так много во всём мире, отчаяния, ныне ведущего к популистской политике, заключается в том, что экономика видится нам попросту «сконструированной» — торговыми правилами, технократами и неолиберальными силами. Действительно, как будет показано в этой книге, теория «ценности» сама представляется некоей разновидностью объективной силы, определяемой предложением и спросом, а не чем-то глубоко укоренённым в определённых типах мировоззрения. Экономика действительно может быть сконструированной и сформированной, но делать это можно либо со страхом, либо с надеждой.
Особый вызов, который я формулирую в своей книге, заключается в том, чтобы выйти за рамки позиции циника в духе Оскара Уайльда, который знает цену всему, но сам ничего не ценит, в направлении экономики надежды. Тогда мы сможем более уверенно оспаривать допущения экономической теории и то, как они преподносятся нам, а заодно и выбрать иной путь среди множества доступных.
джерело
Как показано в главе 3, где рассматривается развитие систем национальных счетов, идея границы сферы производства продолжает воздействовать на понятие «выпуск продукции» (output). Однако есть фундаментальное различие между этой новой границей и её предшествующими формами. Сегодня решения относительно того, что именно составляет ценность в рамках национальных счетов, принимаются путём смешения различных элементов: во-первых, это всё, чему можно законно назначить цену и обменять; во-вторых, присутствуют прагматичные политические решения, такие как учет технологических изменений в компьютерной индустрии или неприлично большой размер финансового сектора; наконец, в-третьих, есть практическая необходимость в поддержании управляемости подсчётами в очень крупных и сложных современных экономиках. Все это, конечно, замечательно, однако тот факт, что дискуссия о границе сферы производства больше не носит определённый характер и не имеет явной связи с идеями по поводу категории ценности, означает, что экономические субъекты способны — путём последовательных лоббистских усилий — незаметно располагаться внутри этой границы. В этом случае их деятельность по изъятию ценности учитывается в ВВП, и очень мало кто это замечает.
В главах 4, 5 и 6 исследуется феномен финансиализации — роста финансового сектора и распространения финансовых практик и подходов на реальную экономику. В главе 4 я прослеживаю возникновение финансов в качестве масштабного сектора экономики и то, как финансы, чаще всего считавшиеся непроизводительным видом деятельности, стали признаваться видом деятельности преимущественно производительным. Ещё в 1960-х гг. составители национальных счетов рассматривали финансовую деятельность просто как перемещение уже существующей ценности, а не порождение новой ценности, и это помещало финансы за пределами границы сферы производства. Сегодня подобное представление претерпело принципиальные изменения. В нынешнем своём воплощении финансы интерпретируются как получение прибылей от услуг, которые стали классифицироваться как производительные. Я анализирую, как и почему произошло это невероятное переопределение, и ставлю вопрос о том, действительно ли финансовое посредничество трансформировалось в безусловно производительную деятельность.
В главе 5 речь идёт о развитии «капитализма, управляющего активами», о том, каким образом финансовый сектор распространился за рамки банков, включив большое количество посредников, занимающихся управлением средствами (индустрию управления активами). Я ставлю вопрос о том, оправдывает ли роль этих посредников и подлинные риски, которые они на себя берут, получаемые ими вознаграждения. Тем самым даётся критическая оценка того, каким был масштаб подлинного вклада управления средствами и частного акционерного капитала в производительную экономику. Кроме того, я задаюсь вопросом о том, возможно ли сегодня взяться за реформирование финансового сектора без серьёзной дискуссии о том, правильно ли классифицированы виды деятельности в нем — не являются ли они тем, что следует рассматривать как рентные доходы, а не как прибыли? — и каким образом можно приступить к этому разделению. Если наши системы национальных счетов действительно жалуют изъятие ценности так, как будто это её создание, то это, возможно, поспособствует пониманию динамики уничтожения ценности, которая характеризовала недавний финансовый кризис.
Исходя из описанного признания за финансами статуса производительного вида деятельности, в главе 6 рассмотрена финансиализация экономики в целом. Краткосрочные финансовые операции, нацеленные на быстрый возврат средств, оказали влияние на промышленность: управление компаниями осуществляется в целях максимизации акционерной ценности (ценности для акционеров). Данная стратегия возникла в 1970-е гг. в попытке реанимировать эффективность корпораций с помощью того, что называлось главной целью конкретной компании — создания ценности для её акционеров. Однако, как будет показано, эта стратегия оказалась пагубной для устойчивого экономического роста, не в последнюю очередь потому, что она стимулирует краткосрочную выгоду для акционеров в ущерб долгосрочным выгодам для компании: подобный путь развития тесно связан с возрастающим влиянием управляющих средствами, которые стремятся к доходам для своих клиентов и для себя самих. В основе максимизации акционерной ценности лежит представление о том, что наибольшие риски берут на себя именно акционеры, заслуживающие тех крупных вознаграждений, которые они зачастую получают.
Принятие на себя рисков зачастую выступает обоснованием тех вознаграждений, которые извлекают инвесторы, и в главе 7 содержится дальнейшее рассмотрение других типов изъятия ценности, осуществляемых во имя этого. В данном случае я имею в виду тот особый тип принятия рисков, который требуется для того, чтобы состоялись радикальные технологические инновации. Несомненно, инновационная деятельность является одной из наиболее рискованных и неопределённых в рамках капитализма, и большинство соответствующих попыток терпят неудачу. Но кто принимает этот вызов? Какого рода стимулы должны для этого создаваться? Здесь я обращаюсь к той необъективной оценке, которая присутствует в сегодняшнем инновационном нарративе, то есть к тому, как не берётся в расчёт принятие на себя рисков государственным сектором, когда государство рассматривается лишь как поддерживающее частный сектор и «снимающее риски». Результатом этого стал комплекс мер, включавший реформирование системы прав интеллектуальной собственности, которое усилило могущество лидеров в данной сфере, ограничило инновационный процесс и породило такое явление, как «непроизводительное предпринимательство» [Baumol 1990]. Основываясь на своей предшествующей книге «Предпринимательское государство», я продемонстрирую, каким образом произошла раскрутка образа предпринимателей и венчурных капиталистов в качестве представителей наиболее динамичной части современного капитализма — инновационного процесса — и как эти лица заявляли о себе в качестве «создателей богатства». Я тщательно проанализирую этот рассказ о создании богатства и покажу, что он является ложным. Заявление, что ценность заключается в инновациях (в самом последнем изводе речь идёт о понятии «платформы» и связанной с ними идеей шеринг-экономики), в меньшей степени относится к подлинным инновациям и в большей степени — к изъятию ценности за счёт получения рентных доходов.
Развивая тему ложного инновационного нарратива, в главе 8 я задаюсь вопросом о том, почему государственный сектор всегда описывается как медлительный, тягомотный, бюрократичный и непроизводительный. Откуда взялось данное описание и кому оно выгодно? Как будет показано, государственный сектор стал представляться непроизводительным точно таким же образом и в то же самое время, когда производительным оказался финансовый сектор. Современная экономическая мысль низвела роль государства лишь до исправления провалов рынка вместо активного создания и формирования рынков. Полагаю, что роль государственного сектора в создании ценности была недооценена. Преобладающая точка зрения, возникшая в рамках негативной реакции на государство в 1980-х гг., принципиально влияет на представления государства о самом себе: оно видит себя колеблющимся, осторожным, заботящимся о том, чтобы не злоупотребить своими полномочиями в том случае, если за этим последуют обвинения в создании проблем для инноваций или обвинения в фаворитизме, в «ставке на победителей». Рассматривая то, почему деятельность государственного сектора не учитывается при подсчёте ВВП, я ставлю вопрос о том, почему она должна иметь значение, и очерчиваю некий иной возможный взгляд на ценность государственного сектора.
В главе 9 я прихожу к заключению, что лишь открытая дискуссия о ценности — её источниках и порождающих её условиях — поможет нашим экономикам двинуться в том направлении, генерирующем больше подлинных инноваций и меньше неравенства, а заодно и трансформирует финансовый сектор в такую часть экономики, которая действительно сосредоточена на помощи созданию ценности в реальной экономике. Недостаточно критиковать спекуляции и изъятие ценности на краткосрочном горизонте, а также приводить доводы в пользу более прогрессивной налоговой системы, чьей мишенью является богатство. Подобную критику нужно обосновывать с помощью иного дискурса о создании ценности. В противном случае программы реформ вновь принесут незначительный эффект и будут легко отвергнуты лоббистскими усилиями так называемых «создателей богатства».
Эта книга не является попыткой отстоять какую-то одну истинную теорию ценности. Скорее, её задача — снова сделать теорию ценности темой, вокруг которой ведутся жаркие дебаты, темой, значимой для времён экономической турбулентности, внутри которой мы находимся. Ценность не является чем- то заданным, чем-то безошибочно помещаемым либо внутри, либо вне границы сферы производства; ценность формируется и создаётся. По моему мнению, финансовый сектор сегодня стимулирует не те отрасли, где он имел значение в качестве сферы, «смазывающей» колеса торговли, а другие отдельные части самого финансового сектора. Таким образом, он находится за пределами границы сферы производства, даже несмотря на то, что формально считается находящимся внутри неё. Но так не должно быть, ведь мы можем формировать финансовые рынки таким образом, чтобы они действительно оказывались в пределах этой границы. Это предполагало бы как новые финансовые институты, чьей задачей является предоставление займов организациям, заинтересованным в долгосрочных высокорисковых инвестициях, способных помочь стимулированию более инновационной экономики, так и изменение инструментов налогообложения в пользу долгосрочных инвестиций перед краткосрочными. Аналогично тому, как показано в главе 7, изменения в нынешнем непроизводительном использовании патентов могли бы помочь им в стимулировании инновационного процесса, а не в подавлении его.
Для создания более справедливой экономики, в которой процветание станет доступным большему количеству людей, а следовательно, будет более устойчивым, необходимо придать новые силы серьёзной дискуссии о природе и происхождении ценности. Мы должны пересмотреть рассказываемые нами истории о том, кто является создателями ценности и каким образом мы определяем разные виды деятельности как экономически производительные и непроизводительные. Прогрессивную политику невозможно ограничивать налогообложением богатства; она требует нового понимания и обсуждения того, как создаётся ценность, в связи с чем такая политика вызывает более яростное и неприкрытое противодействие. Слова имеют значение — нам нужен новый словарь для политических действий. Политика — это не только про «интервенции». Предметом политики является формирование иного будущего, совместное создание рынков и ценности, а не просто «настройка» рынков или перераспределение стоимости, принятие рисков, а не «устранение рисков». Кроме того, политика не должна сводиться к пресловутому выравниванию правил игры, а должна подталкивать эти правила в направлении желательного для нас типа экономики.
Представление о том, что мы можем задавать для рынков определённую форму, имеет важные последствия. Мы способны создавать более надёжную экономику, понимая, что рынки являются результатом решений, принимаемых бизнесом, государственными организациями и гражданским обществом. Восьмичасовой рабочий день сформировал различные рынки — и это был результат борьбы профсоюзов. Возможно, причина того отчаяния, которого сейчас так много во всём мире, отчаяния, ныне ведущего к популистской политике, заключается в том, что экономика видится нам попросту «сконструированной» — торговыми правилами, технократами и неолиберальными силами. Действительно, как будет показано в этой книге, теория «ценности» сама представляется некоей разновидностью объективной силы, определяемой предложением и спросом, а не чем-то глубоко укоренённым в определённых типах мировоззрения. Экономика действительно может быть сконструированной и сформированной, но делать это можно либо со страхом, либо с надеждой.
Особый вызов, который я формулирую в своей книге, заключается в том, чтобы выйти за рамки позиции циника в духе Оскара Уайльда, который знает цену всему, но сам ничего не ценит, в направлении экономики надежды. Тогда мы сможем более уверенно оспаривать допущения экономической теории и то, как они преподносятся нам, а заодно и выбрать иной путь среди множества доступных.
джерело
~
Baumol W. J. 1990. Entrepreneurship: Productive, Unproductive, and Destructive. Journal of Political Economy. 98 (5): 893-921. См. также рус. перев.: Баумоль У. 2013. Предпринимательство: производительное, непроизводительное и деструктивное. Российский журнал менеджмента. 11 (2): 61-84.
Boss Н. Н. 1990. Theories of Surplus and Transfer: Parasites and Producers in Economic Thought. Boston: Unwin Hyman.
Bozeman B. 2007. Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Washington, DC: Georgetown University Press.
Coyle D. 2014. GDP: A Brief but Affectionate History. Princeton: Princeton University Press.CM. также рус. перев.: Койл Д. 2016. ВВП: Краткая история, рассказанная с пиететом. М.: Изд. дом ВШЭ.
Foroohar R. 2016. Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business. New York: Crown Business.
Gaus G. F. 1990. Value and Justification: The Foundations of Liberal Theory. New York: Cambridge University Press.
Haywood B. 1929. Bill Haywood's Book: The Autobiography of Big Bill Haywood. New York: International Publishers.
Hudson M. 2015. Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy. Dresden: ISLET Verlag.
Jensen M. C., Meckling W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3 (4): 205-360. См. такжерус. перев.: Дженсен М., Ме- клинг У. 2004. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 4. С. 118-191.
Lazonick W., Mazzucato М., Tulum О. 2013. Apple's Changing Business Model: What should the World's Richest Company do with its Profits 1 Accounting Forum.37 (4): 249-267.
Mazzucato M. 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths. London: Anthem Press.
Monbiot G. 2012. Mitt Romney and the Myth of Self-Created Millionaires. The Guardian. 24 September. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/24/mitt-romney-self-creation-myth
Oxfam. 2017. An Economy for the 99%. Oxfam Briefing Paper. January. URL: https://www.oxfam.org/sites/ www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf
Piketty T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.
Porter M. E. 1985. Competitive Advantage. New York: Free Press. См. также рус. перев.: Портер М. 2016. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер.
Porter М. Е., Kramer М. R. 2011. Creating Shared Value. Harvard Business Review. 89 (1-2): 62-77.
Stiglitz J. 2012. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future. London: Allen Lane. См. также рус. перев.: Стиглиц Дж. 2015. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: ЭКСМО.
Stiglitz J. Е., Sen A., Fitoussi J.-P. 2010. Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn 'tAdd Up. New York: The New Press. См. также рус. перев.: Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. 2016. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? М.: Изд-во Института Гайдара.
United Nations. 2009. SNA2008. New York: United Nations. См. также: Система национальных счетов 2008. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_2Rev5r.pdf
Boss Н. Н. 1990. Theories of Surplus and Transfer: Parasites and Producers in Economic Thought. Boston: Unwin Hyman.
Bozeman B. 2007. Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism. Washington, DC: Georgetown University Press.
Coyle D. 2014. GDP: A Brief but Affectionate History. Princeton: Princeton University Press.CM. также рус. перев.: Койл Д. 2016. ВВП: Краткая история, рассказанная с пиететом. М.: Изд. дом ВШЭ.
Foroohar R. 2016. Makers and Takers: The Rise of Finance and the Fall of American Business. New York: Crown Business.
Gaus G. F. 1990. Value and Justification: The Foundations of Liberal Theory. New York: Cambridge University Press.
Haywood B. 1929. Bill Haywood's Book: The Autobiography of Big Bill Haywood. New York: International Publishers.
Hudson M. 2015. Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy. Dresden: ISLET Verlag.
Jensen M. C., Meckling W. H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3 (4): 205-360. См. такжерус. перев.: Дженсен М., Ме- клинг У. 2004. Теория фирмы: поведение менеджеров, агентские издержки и структура собственности. Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 4. С. 118-191.
Lazonick W., Mazzucato М., Tulum О. 2013. Apple's Changing Business Model: What should the World's Richest Company do with its Profits 1 Accounting Forum.37 (4): 249-267.
Mazzucato M. 2013. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths. London: Anthem Press.
Monbiot G. 2012. Mitt Romney and the Myth of Self-Created Millionaires. The Guardian. 24 September. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2012/sep/24/mitt-romney-self-creation-myth
Oxfam. 2017. An Economy for the 99%. Oxfam Briefing Paper. January. URL: https://www.oxfam.org/sites/ www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-en.pdf
Piketty T. 2014. Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard University Press.
Porter M. E. 1985. Competitive Advantage. New York: Free Press. См. также рус. перев.: Портер М. 2016. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. М.: Альпина Паблишер.
Porter М. Е., Kramer М. R. 2011. Creating Shared Value. Harvard Business Review. 89 (1-2): 62-77.
Stiglitz J. 2012. The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers our Future. London: Allen Lane. См. также рус. перев.: Стиглиц Дж. 2015. Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему. М.: ЭКСМО.
Stiglitz J. Е., Sen A., Fitoussi J.-P. 2010. Mismeasuring Our Lives: Why GDP Doesn 'tAdd Up. New York: The New Press. См. также рус. перев.: Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.-П. 2016. Неверно оценивая нашу жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? М.: Изд-во Института Гайдара.
United Nations. 2009. SNA2008. New York: United Nations. См. также: Система национальных счетов 2008. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/SeriesF_2Rev5r.pdf