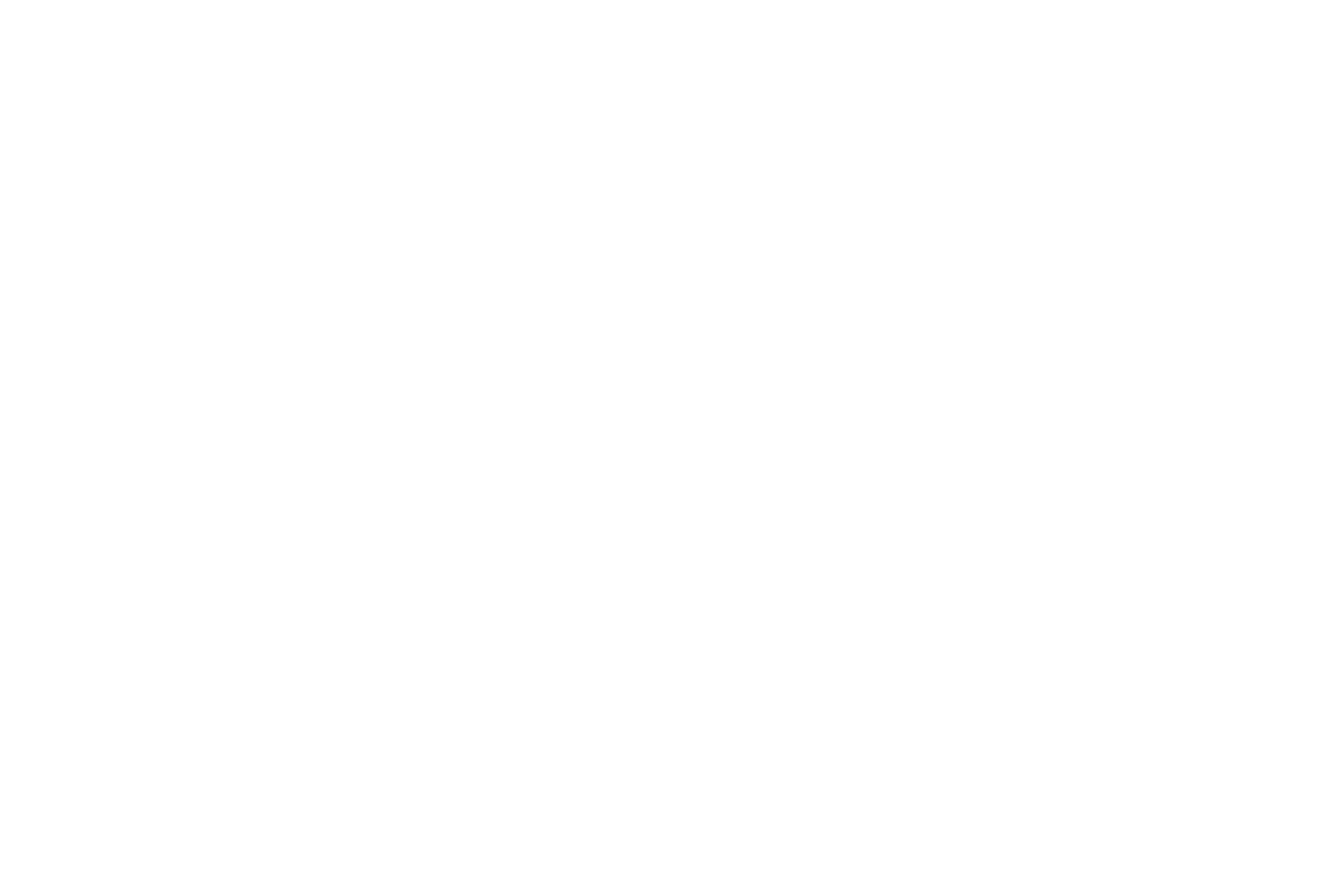© 2019 Strategic Group.Media
Левая теория авторитарного социал-демократического государства
1. Понятие государства и его демоническая
двусмысленность
двусмысленность
«ГОСУДАРСТВО» — одно из самых странных понятий современной политической теории, политической науки и вообще политики. Поскольку термин многозначен, его использование обнаруживает важные лакуны и блокировки мысли, а это симптом идеологической слепоты. В научной литературе данное понятие обычно употребляется в значении «бюрократический аппарат, обеспечивающий управление обществом на основе суверенитета, то есть монополии на легитимное насилие».
Отсюда преобладающие на сегодня дискурсы в мышлении о государстве:
- неовеберианство, которое измеряет «способности» государства, полноценность и рациональность обеспечиваемого им управления, анализирует наличие реальной монополии на решения и выводит все это эмпирически из расклада физической (военной) силы, находящейся в распоряжении элит в момент становления государства;
- близкий к нему неоинституционализм, рассматривающий государство как «доминирующий» институт, в остальном изоморфный другим институтам, то есть представляющий из себя единство норм и санкций;
- неомарксизм, который тоже видит государство как бюрократический аппарат, но критикует его исходя из виртуальной, утопической точки зрения «отмирания» государства в отдаленном будущем. Неомарксизм поэтому особенно озабочен проблемой детерминации государства как политического института, капиталистической экономикой и классовым господством буржуазии. Большинство авторов этой школы считает, что такая детерминация действительно существует, но является непрямой, оставляет за государством «относительную автономию»
Особую проблему представляет собой соотношение демократии как нормативного идеала политики и государства как института и ценности. Исторически, особенно в Англии и США, демократические движения часто занимали анархистские или либертарианские позиции по отношению к государству. Возможно, между демократией и государством существует напряжение. В этом смысле дальнейший прогресс демократии в мире может рассматриваться либо как дальнейшее развитие либерально-репрезентативной модели (если мы верим, что демократия воплощена в государстве и его парламенте), либо как ее социалистическая трансформация в сторону социального равенства, либо как постепенное ограничение государства и становление на его месте автономного общества.
Первый вариант — наиболее распространенный в истеблишменте — полностью оправдывает существующий порядок и декларирует его демократизм, не смущаясь по поводу проблем с легитимностью политической репрезентации.
Социал-демократически ориентированные авторы традиционно выступают за «государство всеобщего благосостояния», где государственный аппарат не только управляет процессами, но и берет на себя функции распределения (апологию такого рода государства из априорных соображений можно найти у Джона Ролза, Юргена Хабермаса, Амартии Сена и пр., а эмпирический анализ— у Гёсты Эспин-Андерсена).
В 1980-е годы, в противовес этому направлению, справа поднимается неолиберализм, который, апеллируя к «демократии» в сочетании с рынком, упрекает государство в неэффективности и неспособности управлять экономикой, делая ставку на «дерегуляцию» со стороны государства и на саморегулирование, присущее экономике и другим общественным институтам.
При этом уже упомянутые неомарксисты, в их практически-нормативном измерении, занимают среднюю позицию: государство благоденствия в какой-то мере благотворно, но в конечном счете нелегитимно.
А более левые авторы, в частности «радикальные демократы» (Эрнесто Лакло, Шанталь Муфф, Жак Рансьер, в США — Бонни Хониг и Уильям Коннолли), стоят в целом на анархистских позициях: государство не «отмирает», но фактически игнорируется в их концепциях демократии, основанной на низовых общественных движениях.
Таким образом, создается некоторый широкий консенсус в отношении минимизации присутствия государства как в реальности, так и в мысли. Это не только авторитарный, отчужденный и недемократичный «руководитель» демократичного общества. Оно еще и фактически не справляется со своими обязанностями, теряет легитимность. Кроме того, государство детерминировано общественными и экономическими процессами, которые важнее как в эмпирическом, так и в ценностном плане.
В 1990-е годы, не без влияния нормативных идей о неэффективности государства, складывается также и представление о закате или кризисе современного государства перед лицом «глобализации» (во всех сферах). На самом деле это якобы объективное наблюдение и нормативно, и описательно одновременно: суверенитет государства, по мнению социальных ученых того времени, слабеет перед лицом международных корпораций и свободного рынка, а также ограничивается юридически через международную интеграцию и интернационализацию самого права, прежде всего в аспекте универсальных «прав человека». Очевидно, что нормативный и описательный аргументы здесь переплетены: государство слабеет именно с точки зрения тех, кто считает международное право имеющим самостоятельную силу, а суверенитет — недостаточным юридическим аргументом в случаях гуманитарных катастроф, насилия государства по отношению к собственному населению и т. д.
Надо заметить, что проблематизация государства далеко не всегда означала нигилизм по отношению к нему: либеральные политологи 1990-х годов, например, были озабочены «неудавшимися государствами» и много писали о необходимости «консолидации» демократии в институтах. Государство необходимо, но демократия к нему не сводится: плюрализм и договоренности элит должны быть закреплены в государстве и подкреплены силовыми и бюрократическими средствами. Авторитарные государства, опирающиеся на силу, считаются в данной школе мысли как раз несовершенными институтами, поскольку не обеспечивают эффективного управления, не могут проводить реформы, хотя и справляются с удержанием власти. Другими словами, здесь, как и во многих других современных подходах, государство — это прежде всего управление, фукианская gouvernementalite, бывшая «камералистика». Суверенитет как публично-правовая функция тоже важен, но играет все меньшую роль в силу глобализации права.
Если неолиберальная и умеренно либеральная позиции в отношении государства были тем самым хорошо обозначены — государство воспринималось как необходимая надстройка над обществом и объект рационализации, — более того, к ним примыкали и неомарксисты (относительно необходимая и относительно рациональная надстройка), то позиция остальных левых, в частности социал-демократов, была менее последовательной. Политически они оппонируют неолиберальным идеям, защищая социальное государство и сопротивляясь приватизации. Демократию здесь стараются отделить от элит и процедур, ввести в нее широкую общественную дискуссию, а еще лучше — массовое участие и конфликт. И однако в рамках этой полемики слева за последние десятилетия не возникло никакой альтернативной концепции государства. Как уже указывалось, для социал-демократов и радикальных демократов речь идет преимущественно об обществе, а государство игнорируется или в лучшем случае воспринимается как проводник демократической политики. То есть даже апологеты государства всеобщего благосостояния парадоксальным образом не дали нам никакой новой его теории, кроме все той же неолиберальной концепции государства как эффективного управления. Но государство как эффективное рациональное управление в политическом смысле—сомнительная ценность. Как любая якобы чисто техническая, инструментальная структура, оно имеет тенденцию к автономизации и к авторитарному руководству, которое изолируется от общественных и правовых институтов. Во всей этой дискуссии исчезает государство как общественное целое, репрезентирующее общество и реализующее его ценности (прим. ред.: правильней было бы "цели"). Неолиберальные и неомарксистские теории недооценивают взаимную детерминацию, при которой не только государство является функцией общества, но и общество является в большой степени творением государства, то есть без планомерной государственной политики может разрушиться это самое общество: экономика и демократия не существуют самостоятельно. Неолиберальная теория, которая подробно диктует правительству шаги по конституированию рыночной экономики, видит эту необходимость, но не рассматривает вопроса о том, почему и зачем правительство будет этим заниматься. В результате на месте этого государства как основного субъекта политики и носителя смыслов возникает вакуум, к которому адресуется только одна политическая сила — националистически настроенные консерваторы. В ситуации, когда «национализм» рассматривался указанными школами политической мысли как своеобразный пережиток и достояние малоразвитых страт общества, его сторонники не были охвачены модой на минимизацию и веберизацию государства и могли не стесняясь восхвалять его, призывать к его укреплению не только как рационального института, но и как носителя коллективной идентичности и истории.
Альтернативой анархо-либертарианству, с одной стороны, и национализму, с другой стороны, стали в англо-американском мире сначала «коммунитаристы» (Чарльз Тэйлор, Майкл Уолцер, Аласдер Макинтайр, позднее Майкл Сэндел), а в 1990-х годах к ним добавились «республиканцы» или «неореспубликанцы» (Квентин Скиннер, Филип Петтит, у нас — Олег Хархордин). Обе эти школы провозгласили отказ от политического индивидуализма, возврат к большим политическим сообществам и важности коллективных добродетелей. Но характерно, что и та и другая избегают языка «государства» (state), так как отмечают его исторические ассоциации с деспотизмом и экспертной бюрократией. Республика — это не «государство», а более старое обозначение политии. Тем не менее отказ от ныне принятого обозначения политической системы приводит к тому, что ни та ни другая школа не предлагает какого-либо альтернативного конституционного устройства—речь идет скорее о ценностях, политической культуре, а иногда, как в случае Петтита, и о правах.
Чтобы лучше разобраться, в чем состоит проблема, нужно пристально взглянуть на историю понятия государства и на его современный узус. Полагаю, корень непонимания в терминологической двусмысленности слова «статус», государство, в современном политическом языке.
Политические ученые почти единодушно уточняют вслед за Вебером, что под государством они понимают очень специфический институт рационального управления, возникший в XVI-XVII веках в Европе и закрепившийся до наших дней. Именно для этого института верны идеи Вебера о монополии на легитимное насилие, именно этот институт Маркс называет надстройкой и обрекает «отмирать». А для политических единиц других эпох политология использует искусственный термин «полития». Но, разумеется, в обыденном языке, по крайней мере в любом европейском языке, слова используются иначе: ни о какой «политии» не говорят, а «государство» упоминается постоянно, в отношении системы власти вообще, а также как синоним «страны» или нации — вот этого коллективного единства.
«Статус» стал основным термином для политического единства страны достаточно поздно. Термин фигурировал еще с Античности, употреблялся широко в раннее Новое время, но он все же был второстепенным по отношению к традиционным понятиям Res Publica и Civitas. Только во второй половине XVIII века «статус» действительно обретает монополию, и окончательно это происходит лишь в трудах Эмериха Ваттеля. Как показывает Квентин Скиннер, восхождение «статуса» связано с его изначальной двусмысленностью: термин отсылал к личной власти, был «чьим-то» статусом (так еще у Макиавелли), но в то же время сразу вводил коннотацию абстрактности и безличности. Статус не сводится к лицу, и слово уже в XVI веке стало употребляться самостоятельно, без указания на носителя. Политическое единство тем самым приобрело абстрактный, рефлексивный характер и в то же время не отсылало к «народу», который так явно присутствовал в слове «республика». Такой термин хорошо подходил к новому суверенному абсолютистскому государству, хотя использовался и английскими республиканцами (с эпитетом «свободный»).
К середине XVIII века «статус», как уже сказано, стал доминирующим термином в отношении политии как таковой. Впрочем, в этот период наряду с ним стало употребляться в похожем смысле понятие «гражданское общество» (societas civilis). И тот и другой термин акцентировали цивилизованное, конвенциональное общение людей в противовес первобытной дикости и гражданской войне. Но «статус» больше отсылал к бюрократии и управлению, а «гражданское общество» — к самому совместному бытию людей.
В Германию понятие «статуса» приходит поздно, но потому и становится еще более монопольным обозначением политии, чем во Франции и Британии. Гегель провел очередную разграничительную операцию, отделив «статус» уже от «гражданского общества», причем так убедительно, что эта новая дифференциация закрепилась во всех языках: «гражданское общество» перешло в разряд материальных, неформальных точек зрения на социум.
Русское слово «государство», которое я использую здесь, с XIX века стало общепринятым для перевода «статуса». Его этимология, разумеется, иная — отсылает к монарху (государю, dominus) и, шире, к вертикальному отношению господства (dominatio). Тем не менее в качестве аналога «статуса» русский термин, натолкнувшись на марксистский дискурс, полностью разделил тяжелую судьбу своего западного прототипа.
В середине XIX века, на почве гегелевской апологии государства как осуществленного абсолюта, вновь возникшее левое движение социализма раскалывается. В нем преобладают анархистские настроения, то есть идея преодоления государства как отчужденного идола общественной любви, эрзаца республиканского идеала. Анархизм такого рода был характерен не только для Прудона, Штирнера и Бакунина, но и для Маркса с Энгельсом, ведь после временного усиления государства как диктатуры пролетариата они также провозглашали неизбежность «отмирания» государства и растворения его административных функций в «обществе» — том самом обществе, от которого Гегель совсем недавно государство как раз отделил. Но другая ветвь социалистической теории — прежде всего Лассаль, а вслед за ним английские и американские гегельянцы конца XIX века (Томас Грин, ранний Джон Дьюи, Джосайя Ройс с его версией коммунитаризма), итальянские гегельянцы (Джованни Джентиле, Бенедетто Кроче, отчасти Антонио Грамши), — напротив, в государстве как единстве административного аппарата и общего блага увидели естественного проводника социального равенства, и отсюда выросло то, что потом в соревновании с марксизмом стало социальным государством.
Тем не менее, поскольку гегемоном мирового развития постепенно стали на Западе США и Великобритания, собственно теория государства претерпевает в XX веке ослепительный закат. После Первой мировой войны, а еще сильнее — после Второй мировой англо-американская теория была настроена резко антигегельянски, и националистические мотивы сыграли свою роль в резком отказе от неогегельянского движения в Британии и США и его дискредитации. На место гегельянства встает инспирированный им, но отказавшийся от холизма прагматизм (именно к нему переходит, например, основной политический философ межвоенного периода в США, бывший гегельянец Джон Дьюи). В Великобритании с манифестом антигосударственного мышления и апологией политического «плюрализма» гражданского общества выступает социалист Гарольд Ласки.
Первый вариант — наиболее распространенный в истеблишменте — полностью оправдывает существующий порядок и декларирует его демократизм, не смущаясь по поводу проблем с легитимностью политической репрезентации.
Социал-демократически ориентированные авторы традиционно выступают за «государство всеобщего благосостояния», где государственный аппарат не только управляет процессами, но и берет на себя функции распределения (апологию такого рода государства из априорных соображений можно найти у Джона Ролза, Юргена Хабермаса, Амартии Сена и пр., а эмпирический анализ— у Гёсты Эспин-Андерсена).
В 1980-е годы, в противовес этому направлению, справа поднимается неолиберализм, который, апеллируя к «демократии» в сочетании с рынком, упрекает государство в неэффективности и неспособности управлять экономикой, делая ставку на «дерегуляцию» со стороны государства и на саморегулирование, присущее экономике и другим общественным институтам.
При этом уже упомянутые неомарксисты, в их практически-нормативном измерении, занимают среднюю позицию: государство благоденствия в какой-то мере благотворно, но в конечном счете нелегитимно.
А более левые авторы, в частности «радикальные демократы» (Эрнесто Лакло, Шанталь Муфф, Жак Рансьер, в США — Бонни Хониг и Уильям Коннолли), стоят в целом на анархистских позициях: государство не «отмирает», но фактически игнорируется в их концепциях демократии, основанной на низовых общественных движениях.
Таким образом, создается некоторый широкий консенсус в отношении минимизации присутствия государства как в реальности, так и в мысли. Это не только авторитарный, отчужденный и недемократичный «руководитель» демократичного общества. Оно еще и фактически не справляется со своими обязанностями, теряет легитимность. Кроме того, государство детерминировано общественными и экономическими процессами, которые важнее как в эмпирическом, так и в ценностном плане.
В 1990-е годы, не без влияния нормативных идей о неэффективности государства, складывается также и представление о закате или кризисе современного государства перед лицом «глобализации» (во всех сферах). На самом деле это якобы объективное наблюдение и нормативно, и описательно одновременно: суверенитет государства, по мнению социальных ученых того времени, слабеет перед лицом международных корпораций и свободного рынка, а также ограничивается юридически через международную интеграцию и интернационализацию самого права, прежде всего в аспекте универсальных «прав человека». Очевидно, что нормативный и описательный аргументы здесь переплетены: государство слабеет именно с точки зрения тех, кто считает международное право имеющим самостоятельную силу, а суверенитет — недостаточным юридическим аргументом в случаях гуманитарных катастроф, насилия государства по отношению к собственному населению и т. д.
Надо заметить, что проблематизация государства далеко не всегда означала нигилизм по отношению к нему: либеральные политологи 1990-х годов, например, были озабочены «неудавшимися государствами» и много писали о необходимости «консолидации» демократии в институтах. Государство необходимо, но демократия к нему не сводится: плюрализм и договоренности элит должны быть закреплены в государстве и подкреплены силовыми и бюрократическими средствами. Авторитарные государства, опирающиеся на силу, считаются в данной школе мысли как раз несовершенными институтами, поскольку не обеспечивают эффективного управления, не могут проводить реформы, хотя и справляются с удержанием власти. Другими словами, здесь, как и во многих других современных подходах, государство — это прежде всего управление, фукианская gouvernementalite, бывшая «камералистика». Суверенитет как публично-правовая функция тоже важен, но играет все меньшую роль в силу глобализации права.
Если неолиберальная и умеренно либеральная позиции в отношении государства были тем самым хорошо обозначены — государство воспринималось как необходимая надстройка над обществом и объект рационализации, — более того, к ним примыкали и неомарксисты (относительно необходимая и относительно рациональная надстройка), то позиция остальных левых, в частности социал-демократов, была менее последовательной. Политически они оппонируют неолиберальным идеям, защищая социальное государство и сопротивляясь приватизации. Демократию здесь стараются отделить от элит и процедур, ввести в нее широкую общественную дискуссию, а еще лучше — массовое участие и конфликт. И однако в рамках этой полемики слева за последние десятилетия не возникло никакой альтернативной концепции государства. Как уже указывалось, для социал-демократов и радикальных демократов речь идет преимущественно об обществе, а государство игнорируется или в лучшем случае воспринимается как проводник демократической политики. То есть даже апологеты государства всеобщего благосостояния парадоксальным образом не дали нам никакой новой его теории, кроме все той же неолиберальной концепции государства как эффективного управления. Но государство как эффективное рациональное управление в политическом смысле—сомнительная ценность. Как любая якобы чисто техническая, инструментальная структура, оно имеет тенденцию к автономизации и к авторитарному руководству, которое изолируется от общественных и правовых институтов. Во всей этой дискуссии исчезает государство как общественное целое, репрезентирующее общество и реализующее его ценности (прим. ред.: правильней было бы "цели"). Неолиберальные и неомарксистские теории недооценивают взаимную детерминацию, при которой не только государство является функцией общества, но и общество является в большой степени творением государства, то есть без планомерной государственной политики может разрушиться это самое общество: экономика и демократия не существуют самостоятельно. Неолиберальная теория, которая подробно диктует правительству шаги по конституированию рыночной экономики, видит эту необходимость, но не рассматривает вопроса о том, почему и зачем правительство будет этим заниматься. В результате на месте этого государства как основного субъекта политики и носителя смыслов возникает вакуум, к которому адресуется только одна политическая сила — националистически настроенные консерваторы. В ситуации, когда «национализм» рассматривался указанными школами политической мысли как своеобразный пережиток и достояние малоразвитых страт общества, его сторонники не были охвачены модой на минимизацию и веберизацию государства и могли не стесняясь восхвалять его, призывать к его укреплению не только как рационального института, но и как носителя коллективной идентичности и истории.
Альтернативой анархо-либертарианству, с одной стороны, и национализму, с другой стороны, стали в англо-американском мире сначала «коммунитаристы» (Чарльз Тэйлор, Майкл Уолцер, Аласдер Макинтайр, позднее Майкл Сэндел), а в 1990-х годах к ним добавились «республиканцы» или «неореспубликанцы» (Квентин Скиннер, Филип Петтит, у нас — Олег Хархордин). Обе эти школы провозгласили отказ от политического индивидуализма, возврат к большим политическим сообществам и важности коллективных добродетелей. Но характерно, что и та и другая избегают языка «государства» (state), так как отмечают его исторические ассоциации с деспотизмом и экспертной бюрократией. Республика — это не «государство», а более старое обозначение политии. Тем не менее отказ от ныне принятого обозначения политической системы приводит к тому, что ни та ни другая школа не предлагает какого-либо альтернативного конституционного устройства—речь идет скорее о ценностях, политической культуре, а иногда, как в случае Петтита, и о правах.
Чтобы лучше разобраться, в чем состоит проблема, нужно пристально взглянуть на историю понятия государства и на его современный узус. Полагаю, корень непонимания в терминологической двусмысленности слова «статус», государство, в современном политическом языке.
Политические ученые почти единодушно уточняют вслед за Вебером, что под государством они понимают очень специфический институт рационального управления, возникший в XVI-XVII веках в Европе и закрепившийся до наших дней. Именно для этого института верны идеи Вебера о монополии на легитимное насилие, именно этот институт Маркс называет надстройкой и обрекает «отмирать». А для политических единиц других эпох политология использует искусственный термин «полития». Но, разумеется, в обыденном языке, по крайней мере в любом европейском языке, слова используются иначе: ни о какой «политии» не говорят, а «государство» упоминается постоянно, в отношении системы власти вообще, а также как синоним «страны» или нации — вот этого коллективного единства.
«Статус» стал основным термином для политического единства страны достаточно поздно. Термин фигурировал еще с Античности, употреблялся широко в раннее Новое время, но он все же был второстепенным по отношению к традиционным понятиям Res Publica и Civitas. Только во второй половине XVIII века «статус» действительно обретает монополию, и окончательно это происходит лишь в трудах Эмериха Ваттеля. Как показывает Квентин Скиннер, восхождение «статуса» связано с его изначальной двусмысленностью: термин отсылал к личной власти, был «чьим-то» статусом (так еще у Макиавелли), но в то же время сразу вводил коннотацию абстрактности и безличности. Статус не сводится к лицу, и слово уже в XVI веке стало употребляться самостоятельно, без указания на носителя. Политическое единство тем самым приобрело абстрактный, рефлексивный характер и в то же время не отсылало к «народу», который так явно присутствовал в слове «республика». Такой термин хорошо подходил к новому суверенному абсолютистскому государству, хотя использовался и английскими республиканцами (с эпитетом «свободный»).
К середине XVIII века «статус», как уже сказано, стал доминирующим термином в отношении политии как таковой. Впрочем, в этот период наряду с ним стало употребляться в похожем смысле понятие «гражданское общество» (societas civilis). И тот и другой термин акцентировали цивилизованное, конвенциональное общение людей в противовес первобытной дикости и гражданской войне. Но «статус» больше отсылал к бюрократии и управлению, а «гражданское общество» — к самому совместному бытию людей.
В Германию понятие «статуса» приходит поздно, но потому и становится еще более монопольным обозначением политии, чем во Франции и Британии. Гегель провел очередную разграничительную операцию, отделив «статус» уже от «гражданского общества», причем так убедительно, что эта новая дифференциация закрепилась во всех языках: «гражданское общество» перешло в разряд материальных, неформальных точек зрения на социум.
Русское слово «государство», которое я использую здесь, с XIX века стало общепринятым для перевода «статуса». Его этимология, разумеется, иная — отсылает к монарху (государю, dominus) и, шире, к вертикальному отношению господства (dominatio). Тем не менее в качестве аналога «статуса» русский термин, натолкнувшись на марксистский дискурс, полностью разделил тяжелую судьбу своего западного прототипа.
В середине XIX века, на почве гегелевской апологии государства как осуществленного абсолюта, вновь возникшее левое движение социализма раскалывается. В нем преобладают анархистские настроения, то есть идея преодоления государства как отчужденного идола общественной любви, эрзаца республиканского идеала. Анархизм такого рода был характерен не только для Прудона, Штирнера и Бакунина, но и для Маркса с Энгельсом, ведь после временного усиления государства как диктатуры пролетариата они также провозглашали неизбежность «отмирания» государства и растворения его административных функций в «обществе» — том самом обществе, от которого Гегель совсем недавно государство как раз отделил. Но другая ветвь социалистической теории — прежде всего Лассаль, а вслед за ним английские и американские гегельянцы конца XIX века (Томас Грин, ранний Джон Дьюи, Джосайя Ройс с его версией коммунитаризма), итальянские гегельянцы (Джованни Джентиле, Бенедетто Кроче, отчасти Антонио Грамши), — напротив, в государстве как единстве административного аппарата и общего блага увидели естественного проводника социального равенства, и отсюда выросло то, что потом в соревновании с марксизмом стало социальным государством.
Тем не менее, поскольку гегемоном мирового развития постепенно стали на Западе США и Великобритания, собственно теория государства претерпевает в XX веке ослепительный закат. После Первой мировой войны, а еще сильнее — после Второй мировой англо-американская теория была настроена резко антигегельянски, и националистические мотивы сыграли свою роль в резком отказе от неогегельянского движения в Британии и США и его дискредитации. На место гегельянства встает инспирированный им, но отказавшийся от холизма прагматизм (именно к нему переходит, например, основной политический философ межвоенного периода в США, бывший гегельянец Джон Дьюи). В Великобритании с манифестом антигосударственного мышления и апологией политического «плюрализма» гражданского общества выступает социалист Гарольд Ласки.
В целом, хотя государственный аппарат никто, конечно, не отменял и не разрушал, его роль минимизировалась как в дескриптивном, так и в нормативном смысле: «демократия» виделась как функция «публики» (в левой версии), «элит» (в правой) или «групп интересов» (в либерально-центристской), организация власти — как «правительство» или «режим».
В своей замечательной книге о кризисе понятия государства датский политический теоретик Йенс Бартельсон пишет:
“
Из центрального понятия ранней политической науки «государство» сначала превратилось в объект повальной критики в первые десятилетия XX века, а затем, к середине этого века, было
уже полностью маргинализировано. <...> Понятие государства
было выкинуто из мейнстрима политической науки и заменено
на понятия «процесс управления» (governmental process) и «политическая система»
уже полностью маргинализировано. <...> Понятие государства
было выкинуто из мейнстрима политической науки и заменено
на понятия «процесс управления» (governmental process) и «политическая система»
Понятие государства было популярнее на континенте даже после Первой мировой войны, но его апологеты занимали консервативные, праволиберальные позиции (Рудольф Сменд и Карл Шмитт в Германии, Карре де Мальберг, Эрик Вайль и даже ранний Жан-Поль Сартр во Франции), фактически не оставившие следов в современной англоязычной политической мысли (кроме Шмитта, но и он прославился не теорией государства). Исключением были, вероятно, итальянские социал-демократы вокруг Норберто Боббио, который уже в 1978 году обозначил проблему: марксисты, по его словам, не имеют адекватной теории государства. При этом Боббио был в курсе разоблачительных теории государства Ральфа Милибэнда и Никоса Пуланзаса — для него в фокусе было не это, а соединение социализма с демократией (которую он понимал этатистски).
В настоящее время англо-американская политическая теория критического толка ориентирована скорее на тех европейских авторов леволиберального и постмарксистского направления, кто защищает демократию общественных движений и выступает против ее чрезмерной формализации в пользу социологически чувствительных, но все равно нормативистских теорий, — это Жак Рансьер, Эрнесто Лакло, Шанталь Муфф, Яннис Ставракакис, Стасис Кувелакис. Но предсказуемым образом в трудах этих авторов государство отсутствует в принципе: демократия превращается в качество общественной активности. Очень влиятельный французский «постструктурализм», как постфактум показал Тодд Мэй, был по своим политическим установкам, сознательно или нет, единодушно анархистским направлением.
Мейнстрим политической теории и политической науки продолжает придерживаться традиционной точки зрения и идентифицировать демократию с системой «полиархии», разделения властей и конкурентных выборов. Но и этот «режим», в английском понимании, редко отождествляется с «государством», которое представляет собой прежде всего бюрократический и военно-полицейский аппарат, обеспечивающий эффективность принимаемых решений.
Что же касается современных европейских социал-демократических и либеральных теоретиков (например, Юрген Хабермас, Надя Урбинати, Элен Ландемор), то их положительная теория государства воспроизводит стандартную версию репрезентативной демократии как идеала и нормативной системы, дополняя ее теми или иными содержательными характеристиками, но не учитывая ее критики как излишне идеалистической и все менее адекватной реалиям, не учитывая в принципе делегитимации парламентаризма. У других социал-демократических авторов встречается модификация критико-марксистской теории государства Пуланзаса, где сначала описывается глубокое погружение государства в капиталистическую экономику, а потом обнаруживается, что оно тем не менее предоставляет каналы для классового диалога, и поэтому работать с ним тактически необходимо. Симптоматично, что и первые, и вторые теоретики социал-демократии сегодня в один голос выступают с алармистскими описаниями «популизма» как антилиберального правого движения, что подчеркивает глубоко системный и идеологический характер понимания ими демократического государства. Так называемый популизм есть не что иное, как материальное, или содержательное, проявление демократии (как «власти народа») в противовес формальному ее пониманию в либеральной политической теории. «Формальное» не означает «формалистическое», и оно несет в себе более универсальную истину, чем конкретное проявление народной воли по тому или иному вопросу. Но тематизация «популизма» как феномена означает, что за этими конкретными материальными проявлениями теперь, в свою очередь, стоит некий всеобщий принцип. И если кратко его обозначить, то он один — национализм.
Само по себе недоверие леволиберальных теоретиков к государству-статусу понятно. Они исходят из историцистского понимания государства, отождествляемого с бюрократией и полицией, унаследованными от абсолютистского государства, а в лучшем случае — с управлением в смысле gouvernementalite Фуко. Однако тогда встает вопрос о позитивной программе, а она либо обходит вопрос о центральной власти (как у Рансьера и Лакло), либо возвращается к ленинистско-маоистским идеям о прогрессивной партии-гегемоне (как у Бадью; но неясно, как эта идея решает вопрос о политическом устройстве общества с различными группами и интересами, которые Ленин и Мао, как известно, вынуждены были просто раздавить). В результате термин «статус» заводит политическую теорию в ловушку, где отторжение государства как рациональной диктатуры, прикрывающейся фиговым листком демократии, приводит к отказу от конструктивного мышления об авторитете и о коллективном субъекте. У нас нет левой
теории государства.
При этом существует левая практика государственного строительства и интуитивная левая защита государства. Очень многие современные общественные движения направлены на то, чтобы защитить завоевания государства всеобщего благосостояния от неолиберального наступления, например отстоять бесплатную воду, 35-часовую рабочую неделю, ограничение увольнений, высокие пенсии и т. д. Многие призывают к дальнейшему развитию социального государства, например к введению базового дохода. Эти движения обращены к государству и имплицитно требуют его усиления, но не признают этого на программном уровне. Евросоюз и сами европейские государства, наряду с неолиберальными бюджетными мерами, ведут большую работу по обеспечению социальных гарантий, поддержке гражданского общества и защите политических прав, в том числе прав трудящихся. Существующие левые платформы, например «манифест нового интернационализма европейских народов» (прим.ред.: SGS уже делала перевод этого документа) платформы ReCommons в Европе или предвыборная программа Сандерса в США, выдвигают предложения по расширению демократии. Но непонятно: если в целом государство есть бюрократический институт по поддержке капиталистической экономики, то с какой стати оно станет интегрировать все эти меры и расширять демократию? Оно будет делать это лишь до той поры, пока эти меры останутся полумерами, не меняющими общих раскладов элитного правления, эксплуатации масс и неоколониального господства. Форма государства, в логике традиционной марксистской критики, действует на любое эмансипаторное содержание, как отравленное дерево на свои плоды, она подчиняет («субсумирует») его и превращает в очередной формалистический, моралистический продукт, воспроизводящий главное — власть самого государства. Именно это происходит, например, уже много десятилетий в США с их прогрессивной антирасистской и феминистской повесткой, которая давно апроприирована этатистскими институтами и превратилась в набор системных бюрократических мер и абстрактных классификаций. Их при этом горячо поддерживают американские левые, с одной стороны, не видя, что это подчиняет живую жизнь бюрократии, а с другой — не предлагая никакой новой теории, альтернативы этой самой бюрократии, занимаясь вместо этого теорией прав и теорией движений.
В настоящее время англо-американская политическая теория критического толка ориентирована скорее на тех европейских авторов леволиберального и постмарксистского направления, кто защищает демократию общественных движений и выступает против ее чрезмерной формализации в пользу социологически чувствительных, но все равно нормативистских теорий, — это Жак Рансьер, Эрнесто Лакло, Шанталь Муфф, Яннис Ставракакис, Стасис Кувелакис. Но предсказуемым образом в трудах этих авторов государство отсутствует в принципе: демократия превращается в качество общественной активности. Очень влиятельный французский «постструктурализм», как постфактум показал Тодд Мэй, был по своим политическим установкам, сознательно или нет, единодушно анархистским направлением.
Мейнстрим политической теории и политической науки продолжает придерживаться традиционной точки зрения и идентифицировать демократию с системой «полиархии», разделения властей и конкурентных выборов. Но и этот «режим», в английском понимании, редко отождествляется с «государством», которое представляет собой прежде всего бюрократический и военно-полицейский аппарат, обеспечивающий эффективность принимаемых решений.
Что же касается современных европейских социал-демократических и либеральных теоретиков (например, Юрген Хабермас, Надя Урбинати, Элен Ландемор), то их положительная теория государства воспроизводит стандартную версию репрезентативной демократии как идеала и нормативной системы, дополняя ее теми или иными содержательными характеристиками, но не учитывая ее критики как излишне идеалистической и все менее адекватной реалиям, не учитывая в принципе делегитимации парламентаризма. У других социал-демократических авторов встречается модификация критико-марксистской теории государства Пуланзаса, где сначала описывается глубокое погружение государства в капиталистическую экономику, а потом обнаруживается, что оно тем не менее предоставляет каналы для классового диалога, и поэтому работать с ним тактически необходимо. Симптоматично, что и первые, и вторые теоретики социал-демократии сегодня в один голос выступают с алармистскими описаниями «популизма» как антилиберального правого движения, что подчеркивает глубоко системный и идеологический характер понимания ими демократического государства. Так называемый популизм есть не что иное, как материальное, или содержательное, проявление демократии (как «власти народа») в противовес формальному ее пониманию в либеральной политической теории. «Формальное» не означает «формалистическое», и оно несет в себе более универсальную истину, чем конкретное проявление народной воли по тому или иному вопросу. Но тематизация «популизма» как феномена означает, что за этими конкретными материальными проявлениями теперь, в свою очередь, стоит некий всеобщий принцип. И если кратко его обозначить, то он один — национализм.
Само по себе недоверие леволиберальных теоретиков к государству-статусу понятно. Они исходят из историцистского понимания государства, отождествляемого с бюрократией и полицией, унаследованными от абсолютистского государства, а в лучшем случае — с управлением в смысле gouvernementalite Фуко. Однако тогда встает вопрос о позитивной программе, а она либо обходит вопрос о центральной власти (как у Рансьера и Лакло), либо возвращается к ленинистско-маоистским идеям о прогрессивной партии-гегемоне (как у Бадью; но неясно, как эта идея решает вопрос о политическом устройстве общества с различными группами и интересами, которые Ленин и Мао, как известно, вынуждены были просто раздавить). В результате термин «статус» заводит политическую теорию в ловушку, где отторжение государства как рациональной диктатуры, прикрывающейся фиговым листком демократии, приводит к отказу от конструктивного мышления об авторитете и о коллективном субъекте. У нас нет левой
теории государства.
При этом существует левая практика государственного строительства и интуитивная левая защита государства. Очень многие современные общественные движения направлены на то, чтобы защитить завоевания государства всеобщего благосостояния от неолиберального наступления, например отстоять бесплатную воду, 35-часовую рабочую неделю, ограничение увольнений, высокие пенсии и т. д. Многие призывают к дальнейшему развитию социального государства, например к введению базового дохода. Эти движения обращены к государству и имплицитно требуют его усиления, но не признают этого на программном уровне. Евросоюз и сами европейские государства, наряду с неолиберальными бюджетными мерами, ведут большую работу по обеспечению социальных гарантий, поддержке гражданского общества и защите политических прав, в том числе прав трудящихся. Существующие левые платформы, например «манифест нового интернационализма европейских народов» (прим.ред.: SGS уже делала перевод этого документа) платформы ReCommons в Европе или предвыборная программа Сандерса в США, выдвигают предложения по расширению демократии. Но непонятно: если в целом государство есть бюрократический институт по поддержке капиталистической экономики, то с какой стати оно станет интегрировать все эти меры и расширять демократию? Оно будет делать это лишь до той поры, пока эти меры останутся полумерами, не меняющими общих раскладов элитного правления, эксплуатации масс и неоколониального господства. Форма государства, в логике традиционной марксистской критики, действует на любое эмансипаторное содержание, как отравленное дерево на свои плоды, она подчиняет («субсумирует») его и превращает в очередной формалистический, моралистический продукт, воспроизводящий главное — власть самого государства. Именно это происходит, например, уже много десятилетий в США с их прогрессивной антирасистской и феминистской повесткой, которая давно апроприирована этатистскими институтами и превратилась в набор системных бюрократических мер и абстрактных классификаций. Их при этом горячо поддерживают американские левые, с одной стороны, не видя, что это подчиняет живую жизнь бюрократии, а с другой — не предлагая никакой новой теории, альтернативы этой самой бюрократии, занимаясь вместо этого теорией прав и теорией движений.
2. Находится ли государство в кризисе, и если да,
то в каком смысле?
то в каком смысле?
Последние 30 лет отмечены не только некоторой растерянностью в дискурсе о государстве, но и модными размышлениями о фактическом кризисе государства. Здесь сыграла свою роль как «глобализация» (спровоцированная распадом СССР с его «железным занавесом»), так и популярная неолиберальная идеология. Имелось в виду не полное исчезновение государств, но постепенная утрата ими одной из главных конститутивных черт — суверенитета, причем как внешнего, международного, так и внутреннего — доминирования государственного аппарата над общественными институтами. Действительно, развитие международных организаций и международного права все чаще создавало ситуации, где государство просто вынуждено было проводить ту или иную политику (например, соблюдать права человека, защищать памятники культуры, не субсидировать избыточно товары своего производства), чтобы не выпасть из международных политических и экономических систем, не потерять рынки и кредиты. Внутри страны на правительства давили опять же международные агенты — прежде всего международные корпорации и благотворительные фонды, — а также собственные, национальные капиталисты и их группы интересов.
Появились и теоретические работы, обосновывающие этот кризис, — от Саскии Сассен, Стивена Краснера, а также Антонио Негри и Майкла Хардта (последние, впрочем, верно уловили этатизацию самих международных структур) до более недавних текстов Венди Браун, Мариано Кроче с Андреа Сальваторе. Нетрудно увидеть, что в данном случае эмпирическая реальность совпала с теоретическими в ожиданиях, ведь и до глобализационного кризиса, как мы видели, в политической науке к государству относились скептически, как к слишком концептуально «нагруженному» термину, и поэтому поспешно зафиксировали изменение баланса сил — перетекание их от государственного аппарата и правительства к различным надгосударственным и негосударственным структурам, подтвердив децентрализованное и плюралистическое видение политики.
В то же время сегодня, в 2019 году, особенно из России, этот диагноз видится как поспешный. В ответ на многочисленные вызовы суверенитету и власти национальных правительств эти правительства довольно оперативно перегруппировались. В последние годы мы наблюдаем почти зеркальный процесс секуритизации России и США в борьбе с «иностранными агентами» друг друга и прочих держав. В подобную же игру после попытки государственного переворота 2017 года активно играет Турция (борясь с влиянием «гюленистов» и неформального государства курдов). Во всех этих трех государствах происходит переориентация внешней торговли с либеральных рельсов на меркантилистские.
Китай никогда и не открывал своих политических процессов внешним воздействиям и жестко контролирует политическое влияние своих бизнесменов. Евросоюз на этом фоне остается гораздо более открытым и соблюдающим международное право, однако если рассматривать его целиком, как большую квазиимперию, то и он, столкнувшись с кризисом мигрантов в 2014-2016 годах, вынужден был ужесточить контроль над границами, а Великобритания вообще предпочла путь ресуверенизации. Теория упадка суверенитета в полной мере относится только к государствам, менее влиятельным в международной политике, в основном бывшим колониям Европы (страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока). Здесь «глобализация» действительно позволила международным институтам приобрести большее влияние, чем раньше, особенно если учесть серию военных кампаний, предпринятых именно с этой целью, а также серию успешных бархатных революций антиавторитарного толка, в основном на территории бывшего СССР.
Восстановление суверенитета (если он вообще когда-то был утерян), как мы видим на примере России, происходит даже с избытком. В ситуации борьбы с иностранным влиянием государство за счет выборочных силовых действий сумело вернуть себе роль скрытого учредителя общественных структур (второго и третьего секторов), поскольку его невмешательство в ту или иную корпорацию или культурную институцию означает теперь не либеральную открытость, а непрямую поддержку. Более того, подобный корпоратистский или даже ультракорпоратистский симбиоз с формально частными структурами позволил российскому государству проецировать свою власть вовне (в Украину, Евросоюз) через посредство частных компаний, общественных инициатив и даже социальных сетей. В этом смысле речь идет не о государстве как об аппарате правительства или о полицейской вертикали, а о широком национальном фронте государственных и общественных структур, которые государство как бы возглавляет.
В этом смысле применима оказалась неоинституционалистская парадигма Пола Ди Маджио и Уолтера Пауэлла, в которой государство является «доминирующим институтом», но даже она, сводя его опять к одному институту, к одной структуре власти, недооценивает национальный и консолидирующий потенциал государства как идеологемы и символа «народного единства» (высокопарный стиль российской власти здесь как раз к месту).
Государство в реальности не ослабло и в странах центра. Как показывает целый ряд исследователей, от Дэвида Харви до Беатрис Ибу, неолиберальные реформы привели не к ослаблению государства, а к его перегруппировке и проникающей экспансии. Сами госорганы могли сузить сферу прямого управления, но зато произошла бюрократизация и этатизация повседневной жизни и особенно экономической деятельности, позволяющая собственно государству с меньшим усилием воздействовать на общество, которое все более на него походит. На смену органам прямого управления пришли многочисленные органы контроля. Международные институты опираются на те же кадры, что и аппараты национальных государств, элиты которых, таким образом, все равно остаются у власти, несмотря на глобализацию.
Пример России и США, равно как и анализ неолиберального государства, потенциально переворачивает всю сложившуюся ранее для наивного наблюдателя картину. Если современная экономика в принципе может работать на меркантилистских и корпоратистских рельсах, то ясно, что и в либеральном Евросоюзе общественные движения, например левые, находятся в своеобразном симбиозе с государством и гипергосударством, что видно, в частности, по огромным суммам, тратящимся на поддержку некоммерческих организаций, и по мягкой политике в отношении демонстраций (которые разгоняются, но не предотвращаются). В то же время само государство растет и усиливается, укрепляя свои позиции во втором и третьем секторах общества. Но тогда для левых — еще в большей степени, чем раньше, — встает вопрос: как же выстраивать свою политику в отношении государства? Если это твое государство и оно тебя поддерживает, то надо откинуть радикальную фронду и вести прежде всего электоральную борьбу за выбор правильных политиков и за решение главных вопросов в парламенте. Если же государство не твое и тебя
поддерживает лишь случайно или за компанию, то необходимо выработать программу обустройства государства нового типа, по крайней мере на переходный период, до победы глобальной революции. И если это будет демократическое государство (скажем, демократический социализм), то как оно будет относиться к общественным движениям, международным организациям и мелкому и среднему бизнесу (допустим, если крупный будет национализирован) ?
Если перевести эту дискуссию на язык теории, вопрос в том, как будет между собой соотноситься формальное и реальное подчинение (субсумпция). Или: как будет в левом государстве соотноситься элемент диктатуры (подчинение и расформирование класса крупных собственников, предотвращение внешних интервенций и контрреволюционных мятежей) и элемент демократии (опора на народ или трудящееся большинство, стимулирование низовой активности масс, общественный диалог и т. д.)?
Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, любая подобная структура примет тот же формат, в котором, как мы видим, уже существует «либеральное» государство. Фикция репрезентации всего народа через парламент и нигилистическая картина полицейской диктатуры — обе описывают лишь половину картины, а реальность государства — это взаимодействие аппарата реальной силовой и нормативной власти с низовыми движениями и группами, которые одновременно формируют ее (через выборы, общественное мнение, политическое давление и вообще признание) и конституируются ею (через выборочную финансово-юридическую поддержку, выборочное силовое подавление и вообще через признание).
Появились и теоретические работы, обосновывающие этот кризис, — от Саскии Сассен, Стивена Краснера, а также Антонио Негри и Майкла Хардта (последние, впрочем, верно уловили этатизацию самих международных структур) до более недавних текстов Венди Браун, Мариано Кроче с Андреа Сальваторе. Нетрудно увидеть, что в данном случае эмпирическая реальность совпала с теоретическими в ожиданиях, ведь и до глобализационного кризиса, как мы видели, в политической науке к государству относились скептически, как к слишком концептуально «нагруженному» термину, и поэтому поспешно зафиксировали изменение баланса сил — перетекание их от государственного аппарата и правительства к различным надгосударственным и негосударственным структурам, подтвердив децентрализованное и плюралистическое видение политики.
В то же время сегодня, в 2019 году, особенно из России, этот диагноз видится как поспешный. В ответ на многочисленные вызовы суверенитету и власти национальных правительств эти правительства довольно оперативно перегруппировались. В последние годы мы наблюдаем почти зеркальный процесс секуритизации России и США в борьбе с «иностранными агентами» друг друга и прочих держав. В подобную же игру после попытки государственного переворота 2017 года активно играет Турция (борясь с влиянием «гюленистов» и неформального государства курдов). Во всех этих трех государствах происходит переориентация внешней торговли с либеральных рельсов на меркантилистские.
Китай никогда и не открывал своих политических процессов внешним воздействиям и жестко контролирует политическое влияние своих бизнесменов. Евросоюз на этом фоне остается гораздо более открытым и соблюдающим международное право, однако если рассматривать его целиком, как большую квазиимперию, то и он, столкнувшись с кризисом мигрантов в 2014-2016 годах, вынужден был ужесточить контроль над границами, а Великобритания вообще предпочла путь ресуверенизации. Теория упадка суверенитета в полной мере относится только к государствам, менее влиятельным в международной политике, в основном бывшим колониям Европы (страны Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока). Здесь «глобализация» действительно позволила международным институтам приобрести большее влияние, чем раньше, особенно если учесть серию военных кампаний, предпринятых именно с этой целью, а также серию успешных бархатных революций антиавторитарного толка, в основном на территории бывшего СССР.
Восстановление суверенитета (если он вообще когда-то был утерян), как мы видим на примере России, происходит даже с избытком. В ситуации борьбы с иностранным влиянием государство за счет выборочных силовых действий сумело вернуть себе роль скрытого учредителя общественных структур (второго и третьего секторов), поскольку его невмешательство в ту или иную корпорацию или культурную институцию означает теперь не либеральную открытость, а непрямую поддержку. Более того, подобный корпоратистский или даже ультракорпоратистский симбиоз с формально частными структурами позволил российскому государству проецировать свою власть вовне (в Украину, Евросоюз) через посредство частных компаний, общественных инициатив и даже социальных сетей. В этом смысле речь идет не о государстве как об аппарате правительства или о полицейской вертикали, а о широком национальном фронте государственных и общественных структур, которые государство как бы возглавляет.
В этом смысле применима оказалась неоинституционалистская парадигма Пола Ди Маджио и Уолтера Пауэлла, в которой государство является «доминирующим институтом», но даже она, сводя его опять к одному институту, к одной структуре власти, недооценивает национальный и консолидирующий потенциал государства как идеологемы и символа «народного единства» (высокопарный стиль российской власти здесь как раз к месту).
Государство в реальности не ослабло и в странах центра. Как показывает целый ряд исследователей, от Дэвида Харви до Беатрис Ибу, неолиберальные реформы привели не к ослаблению государства, а к его перегруппировке и проникающей экспансии. Сами госорганы могли сузить сферу прямого управления, но зато произошла бюрократизация и этатизация повседневной жизни и особенно экономической деятельности, позволяющая собственно государству с меньшим усилием воздействовать на общество, которое все более на него походит. На смену органам прямого управления пришли многочисленные органы контроля. Международные институты опираются на те же кадры, что и аппараты национальных государств, элиты которых, таким образом, все равно остаются у власти, несмотря на глобализацию.
Пример России и США, равно как и анализ неолиберального государства, потенциально переворачивает всю сложившуюся ранее для наивного наблюдателя картину. Если современная экономика в принципе может работать на меркантилистских и корпоратистских рельсах, то ясно, что и в либеральном Евросоюзе общественные движения, например левые, находятся в своеобразном симбиозе с государством и гипергосударством, что видно, в частности, по огромным суммам, тратящимся на поддержку некоммерческих организаций, и по мягкой политике в отношении демонстраций (которые разгоняются, но не предотвращаются). В то же время само государство растет и усиливается, укрепляя свои позиции во втором и третьем секторах общества. Но тогда для левых — еще в большей степени, чем раньше, — встает вопрос: как же выстраивать свою политику в отношении государства? Если это твое государство и оно тебя поддерживает, то надо откинуть радикальную фронду и вести прежде всего электоральную борьбу за выбор правильных политиков и за решение главных вопросов в парламенте. Если же государство не твое и тебя
поддерживает лишь случайно или за компанию, то необходимо выработать программу обустройства государства нового типа, по крайней мере на переходный период, до победы глобальной революции. И если это будет демократическое государство (скажем, демократический социализм), то как оно будет относиться к общественным движениям, международным организациям и мелкому и среднему бизнесу (допустим, если крупный будет национализирован) ?
Если перевести эту дискуссию на язык теории, вопрос в том, как будет между собой соотноситься формальное и реальное подчинение (субсумпция). Или: как будет в левом государстве соотноситься элемент диктатуры (подчинение и расформирование класса крупных собственников, предотвращение внешних интервенций и контрреволюционных мятежей) и элемент демократии (опора на народ или трудящееся большинство, стимулирование низовой активности масс, общественный диалог и т. д.)?
Забегая вперед, скажу, что, на мой взгляд, любая подобная структура примет тот же формат, в котором, как мы видим, уже существует «либеральное» государство. Фикция репрезентации всего народа через парламент и нигилистическая картина полицейской диктатуры — обе описывают лишь половину картины, а реальность государства — это взаимодействие аппарата реальной силовой и нормативной власти с низовыми движениями и группами, которые одновременно формируют ее (через выборы, общественное мнение, политическое давление и вообще признание) и конституируются ею (через выборочную финансово-юридическую поддержку, выборочное силовое подавление и вообще через признание).
3. Отделяя Маркса от анархизма
В этом контексте я считаю важным вернуться к истокам марксизма, а именно к ранней рукописи Маркса «К критике гегелевской философии права». Это незаконченная рукопись 1843 года, из которой молодой немецкий младогегельянец опубликовал тогда только знаменитое «Введение», где раскритиковал критику религии, назвал революционным классом пролетариат и провозгласил грядущую радикальную революцию. Рукопись же «Критики» представляет собой набор пространных цитат из гегелевской «Философии права» с ироничными комментариями, то есть это во всех смыслах не завершенное, подготовительное произведение. Тем не менее в нем содержится на редкость детальная и интересная теория государства, отличная от позднейших высказываний Маркса на эту тему. Как известно, зрелый Маркс объявляет
государство «исполнительным комитетом по делам буржуазии», однако предлагает после революции не расформировать его немедленно, а присвоить и превратить в «диктатуру пролетариата», которая постепенно подготовит «отмирание» государства и превращение администрирования после ликвидации частной собственности в тривиальную общественную функцию. В работах позднего периода, когда Маркс уже занимался реальной политикой, он рассматривает возможность демократического социального государства, например в Парижской коммуне, однако ничто не указывает на его отказ от радикального тезиса о его будущем «отмирании».
В рукописи же 1843 года Маркс видит альтернативу гегелевскому либеральному консерватизму в формировании демократического государства. Здесь тоже есть негативный момент, потому что демократия предстает как отрицание, снятие государства, но только в том смысле, что это государство теряет свою отчужденную самостоятельность по отношению к обществу.
государство «исполнительным комитетом по делам буржуазии», однако предлагает после революции не расформировать его немедленно, а присвоить и превратить в «диктатуру пролетариата», которая постепенно подготовит «отмирание» государства и превращение администрирования после ликвидации частной собственности в тривиальную общественную функцию. В работах позднего периода, когда Маркс уже занимался реальной политикой, он рассматривает возможность демократического социального государства, например в Парижской коммуне, однако ничто не указывает на его отказ от радикального тезиса о его будущем «отмирании».
В рукописи же 1843 года Маркс видит альтернативу гегелевскому либеральному консерватизму в формировании демократического государства. Здесь тоже есть негативный момент, потому что демократия предстает как отрицание, снятие государства, но только в том смысле, что это государство теряет свою отчужденную самостоятельность по отношению к обществу.
“
В демократии государство, как особый момент, есть только особый момент, как всеобщее же оно есть действительно всеобщее, то есть оно не есть данное определенное содержание, в отличие от другого содержания. Французы новейшего времени это поняли так, что в истинной демократии политическое государство исчезает. Это верно постольку, поскольку в демократии политическое государство как таковое, как государственный строй, уже не признается за целое
Демократическое государство не «отмирает», а, наоборот, составляет телос общественного развития. Вопрос только в том, какую именно роль играет в нем «демос». Читая Гегеля, Маркс обращает внимание на двусмысленность в понимании законодательной власти, которую Гегель по старинке приписывает сословному собранию. Маркс указывает, что эта законодательная власть играет одновременно роль постоянной оппозиции суверенной власти, своего рода эфората, и одновременно провозглашается самой государственной властью. Формально народ правит через законы, а материально он через законодательное собрание протестует. Это противоречие у Гегеля по идее должно только усилиться, когда государство станет демократическим (то есть народ принимает участие и в управлении, и в законодательстве, но так, что при этом остается и административная бюрократия). За это в своей интерпретации ухватывается, как мы увидим, Мигель Абенсур.
Теоретически Маркс строит свой аргумент на диалектике формы и содержания, а также на диалектике субъекта и предиката.
Теоретически Маркс строит свой аргумент на диалектике формы и содержания, а также на диалектике субъекта и предиката.
“
В демократии... формальный принцип является одновременно
и материальным принципом. Лишь она поэтому есть подлинное единство всеобщего и особого.
и материальным принципом. Лишь она поэтому есть подлинное единство всеобщего и особого.
Конституционное государство в духе Гегеля претендует на формальное подчинение общества и семьи при предоставлении им в реальности широкой автономии. Государство вообще — сущностно формальный институт и институт формализма. Гегель, с одной стороны, говорит, что народ в государстве имеет формальный суверенитет — в том смысле, что управление производится от его лица, — но ни в коем случае не обладает материальной властью. С другой стороны, на примере поддержки государством майората Маркс показывает, что вопреки претензии на формальное конституирование общества гегелевское государство впадает от него в материальную зависимость.
“
То, что Гегель изображает как цель, как определяющий момент, как prima causa майората, представляет собой, напротив, его результат, его следствие, власть абстрактной частной собственности над политическим государством, между тем как Гегель изображает майорат как власть политического государства над частной собственностью. Он превращает причину в следствие и следствие в причину, определяющий момент — в определяемый, а определяемый — в определяющий.
... К чему же сводится власть политического государства над частной собственностью? К собственной власти частной собственности, к ее сущности, которая доведена до существования. Что остается политическому государству в противоположность этой сущности? Остается иллюзия, будто оно является определяющим, в то время как оно является определяемым. Государство, конечно, ломает волю семьи и общества, но оно это делает для того лишь, чтобы дать существование воле частной собственности, которая неподвластна семье и обществу, и признать это существование высшим существованием политического государства, высшим нравственным существованием.
... К чему же сводится власть политического государства над частной собственностью? К собственной власти частной собственности, к ее сущности, которая доведена до существования. Что остается политическому государству в противоположность этой сущности? Остается иллюзия, будто оно является определяющим, в то время как оно является определяемым. Государство, конечно, ломает волю семьи и общества, но оно это делает для того лишь, чтобы дать существование воле частной собственности, которая неподвластна семье и обществу, и признать это существование высшим существованием политического государства, высшим нравственным существованием.
Искусственно поддерживая майорат (наследование имущества старшим сыном) на законодательном уровне, государство формирует структуры частной собственности вопреки духу семьи (любовь) и гражданского общества (раздробленность), тем самым их отрицая. Но остается непонятным, зачем государству крупная частная собственность, — это некая догма, которая приходит к нему извне, казалось бы с давно преодоленного духом уровня абстрактного права, и составляет материальное, неотрефлексированное воздействие реально существующих структур господства на якобы рациональный институт государства.
Аналогичным образом, когда Гегель описывает фигуру суверена с его чисто формальным жестом утверждения рациональных документов, он вынужден заметить, что суверен является натуральным, устанавливаемым по наследству, человеком, то есть материей формальной власти является «абстрактное лицо», эта, казалось бы, давно оставленная инстанция примитивного абстрактного права. Государство оказывается функцией того, что оно якобы «сняло-преодолело», оно учреждает свою собственную материальную зависимость. Гегелевская диалектика «полагания своих собственных предпосылок» попадает тем самым в порочный круг, причем последнее слово, по Марксу, принадлежит материальному, косному, недо-снятому прошлому. В то же время здесь (как и в дальнейшем у Маркса) речь не идет о вульгарном материализме. Марксу ясно, что государство действительно учреждает майорат и действительно обожествляет изолированную личность; при этом именно оно, «снимая» их, придает им косный, «не-политический», то есть вне-идеальный, характер пережитков. И оно же попадает к ним в зависимость, образуя то, что Вальтер Беньямин потом назовет «зависшей диалектикой».
Именно эта двойственность уходит в демократическом государстве, где форма должна перейти в содержание, то есть внешне разумные и свободные формы государства должны теперь пронизать всю систему права и трансформировать ее так, что само государство становится представительным в материальном смысле. Теперь «сапожник является моим представителем, поскольку он удовлетворяет известную социальную потребность», то есть поскольку я вступаю с ним в некие содержательные отношения. В случае государства это, очевидно, отношения власти, но в демократии (как и при починке сапог) они принимают обоюдный характер. Это, в частности, значит, что вместо майората и династического принципа с их вульгарной абстрактностью государство должно активно полагать и даже реально творить свои собственные предпосылки, материальные процессы универсализации, такие как тотальная демократия, грандиозное искусство и массовое энциклопедическое образование.
Как это единство формы и содержания может выглядеть с институциональной точки зрения, у Маркса не описано, однако позднее именно на этот вопрос отвечает, по-видимому, «диктатура пролетариата» — пролетариат должен установить диктатуру, чтобы конституировать самого себя как эмансипаторный класс,
чтобы получить от самого же себя как сознательной моральной группы импульс к «отмиранию».
В 1997 году появилась блестящая интерпретация рукописи Маркса французским философом Мигелем Абенсуром. Абенсур привлек внимание к этому полузабытому тексту и использовал его для того, чтобы указать, в духе своего либерально-анархического времени, на противоречие между государством и демократией, которое при этом не уничтожает ни то ни другую. Абенсур верно отмечает, что в этой работе, в отличие от последующих, Маркс не оспаривает необходимость государства как такового и не призывает к его уничтожению. Однако, по его мнению, демократия живет в таком «государстве» не как его репрезентативная форма, а как постоянный негативный фактор, некая заноза, которая постоянно разлагает то, что государству удается собрать. Она способствует «деформализации» государства, лишает его монополии на политическое, принимая это политическое на себя.
Аналогичным образом, когда Гегель описывает фигуру суверена с его чисто формальным жестом утверждения рациональных документов, он вынужден заметить, что суверен является натуральным, устанавливаемым по наследству, человеком, то есть материей формальной власти является «абстрактное лицо», эта, казалось бы, давно оставленная инстанция примитивного абстрактного права. Государство оказывается функцией того, что оно якобы «сняло-преодолело», оно учреждает свою собственную материальную зависимость. Гегелевская диалектика «полагания своих собственных предпосылок» попадает тем самым в порочный круг, причем последнее слово, по Марксу, принадлежит материальному, косному, недо-снятому прошлому. В то же время здесь (как и в дальнейшем у Маркса) речь не идет о вульгарном материализме. Марксу ясно, что государство действительно учреждает майорат и действительно обожествляет изолированную личность; при этом именно оно, «снимая» их, придает им косный, «не-политический», то есть вне-идеальный, характер пережитков. И оно же попадает к ним в зависимость, образуя то, что Вальтер Беньямин потом назовет «зависшей диалектикой».
Именно эта двойственность уходит в демократическом государстве, где форма должна перейти в содержание, то есть внешне разумные и свободные формы государства должны теперь пронизать всю систему права и трансформировать ее так, что само государство становится представительным в материальном смысле. Теперь «сапожник является моим представителем, поскольку он удовлетворяет известную социальную потребность», то есть поскольку я вступаю с ним в некие содержательные отношения. В случае государства это, очевидно, отношения власти, но в демократии (как и при починке сапог) они принимают обоюдный характер. Это, в частности, значит, что вместо майората и династического принципа с их вульгарной абстрактностью государство должно активно полагать и даже реально творить свои собственные предпосылки, материальные процессы универсализации, такие как тотальная демократия, грандиозное искусство и массовое энциклопедическое образование.
Как это единство формы и содержания может выглядеть с институциональной точки зрения, у Маркса не описано, однако позднее именно на этот вопрос отвечает, по-видимому, «диктатура пролетариата» — пролетариат должен установить диктатуру, чтобы конституировать самого себя как эмансипаторный класс,
чтобы получить от самого же себя как сознательной моральной группы импульс к «отмиранию».
В 1997 году появилась блестящая интерпретация рукописи Маркса французским философом Мигелем Абенсуром. Абенсур привлек внимание к этому полузабытому тексту и использовал его для того, чтобы указать, в духе своего либерально-анархического времени, на противоречие между государством и демократией, которое при этом не уничтожает ни то ни другую. Абенсур верно отмечает, что в этой работе, в отличие от последующих, Маркс не оспаривает необходимость государства как такового и не призывает к его уничтожению. Однако, по его мнению, демократия живет в таком «государстве» не как его репрезентативная форма, а как постоянный негативный фактор, некая заноза, которая постоянно разлагает то, что государству удается собрать. Она способствует «деформализации» государства, лишает его монополии на политическое, принимая это политическое на себя.
“
Демократия, беспорядок, который не претендует на новый порядок, имеет неустранимое значение отказа от синтеза, отказа от порядка — инвенция во времени политического отношения, которое переполняет и перехватывает государство. Если демократия утверждает себя в оппозиции государству, то это потому,
что против него постоянно выступает сама политика.
что против него постоянно выступает сама политика.
Демократические общественные движения и борьба угнетенных разного рода не пропадают с победой некой последней революции, а продолжаются постоянно, несмотря на государство, — что мы, собственно, и наблюдаем в современной Франции.
Я думаю, что выводы Абенсура во многом оправданны, он верно схватывает неснимаемую противоположность государства и демократии. Однако надо сделать следующий шаг. Французский философ смотрит на государство с точки зрения демократии и не очень интересуется им самим, по-видимому соглашаясь с общепринятой оценкой государства как бюрократической, рассудочной машины. Но остается вопрос: зачем государство терпит «демократию» и не является ли она, с его точки зрения, тем же, чем в марксовской критике майорат и наследование престола, то есть режимом примитивных разрозненных индивидов, думающих только о своих эгоистических правах и нарушающих универсальность государственной политики? Более того, если демократия постоянно подрывает государство, то не будет ли и оно заниматься тем же, и не должны ли мы тогда предусмотреть меры по неперерастанию этой противоположности в (антагонистическое) противоречие, которое уничтожит демократию?
Я же считаю, что из анализа Маркса, учитывая дальнейшую судьбу марксизма и его заражение недемократическим авторитаризмом (через рискованную фигуру «диктатуры»), нужно сделать более развернутые выводы о том, что такое левое социал-демократическое государство.
Поскольку оно будет все же государством, то не сможет избежать определяющего для любого государства круга подчинения (субсумпции) — в нем неизбежно возникнут внутренние фракции, общественные группировки, инициативы, оспаривающие его власть, которые оно же само будет толерировать или стимулировать. Другими словами, объединяясь в форму государства, общество не подчиняется ей полностью и сохраняет с ней двойное отношение снизу вверх и сверху вниз: круг взаимной авторизации, взаимного толерирования и взаимного оспаривания.
Следовательно, конституция подобного государства не может быть написана по лекалам обычной репрезентативной «демократии», которая провозглашает формальную идентичность народа и государства, а дальше навязывает этому народу атомарно-индивидуалистическое строение через серию «прав». Скорее мы должны предполагать конститутивное противоречие государства и народа, но такое, где государство само конституирует непокорный ему народ, примерно так же, как философ (например, автор схоластического трактата) и математик (например, доказывающий от противного) сами выстраивают сильную оппозицию своим взглядам, чтобы понять ускользающую от них реальность. (Политически мы можем здесь опираться, например, на французскую конституцию 1791 года, куда было вписано право народа на восстание.)
Вместо майората и персонализма демократическое государство должно постоянно провоцировать и стимулировать демократическое участие, что оно может делать, лишь обладая сильной деспотической властью. Парадоксальным образом только такая сильная и авторитетная власть способна самоустраниться, вычеркнуть себя из политического процесса до тех пор, пока режиму не угрожает экзистенциальная опасность. Другими словами, демократическое государство совершает выход за собственные рамки путем, противоположным модели Карла Шмитта, где оно чрезвычайным образом подвешивает право. Демократическое государство выходит за собственные границы, ограничивая себя и утверждая право, — модель, которую задолго до Шмитта, в конце XIX века, описал немецкий философ права Георг
Йеллинек.
Я думаю, что выводы Абенсура во многом оправданны, он верно схватывает неснимаемую противоположность государства и демократии. Однако надо сделать следующий шаг. Французский философ смотрит на государство с точки зрения демократии и не очень интересуется им самим, по-видимому соглашаясь с общепринятой оценкой государства как бюрократической, рассудочной машины. Но остается вопрос: зачем государство терпит «демократию» и не является ли она, с его точки зрения, тем же, чем в марксовской критике майорат и наследование престола, то есть режимом примитивных разрозненных индивидов, думающих только о своих эгоистических правах и нарушающих универсальность государственной политики? Более того, если демократия постоянно подрывает государство, то не будет ли и оно заниматься тем же, и не должны ли мы тогда предусмотреть меры по неперерастанию этой противоположности в (антагонистическое) противоречие, которое уничтожит демократию?
Я же считаю, что из анализа Маркса, учитывая дальнейшую судьбу марксизма и его заражение недемократическим авторитаризмом (через рискованную фигуру «диктатуры»), нужно сделать более развернутые выводы о том, что такое левое социал-демократическое государство.
Поскольку оно будет все же государством, то не сможет избежать определяющего для любого государства круга подчинения (субсумпции) — в нем неизбежно возникнут внутренние фракции, общественные группировки, инициативы, оспаривающие его власть, которые оно же само будет толерировать или стимулировать. Другими словами, объединяясь в форму государства, общество не подчиняется ей полностью и сохраняет с ней двойное отношение снизу вверх и сверху вниз: круг взаимной авторизации, взаимного толерирования и взаимного оспаривания.
Следовательно, конституция подобного государства не может быть написана по лекалам обычной репрезентативной «демократии», которая провозглашает формальную идентичность народа и государства, а дальше навязывает этому народу атомарно-индивидуалистическое строение через серию «прав». Скорее мы должны предполагать конститутивное противоречие государства и народа, но такое, где государство само конституирует непокорный ему народ, примерно так же, как философ (например, автор схоластического трактата) и математик (например, доказывающий от противного) сами выстраивают сильную оппозицию своим взглядам, чтобы понять ускользающую от них реальность. (Политически мы можем здесь опираться, например, на французскую конституцию 1791 года, куда было вписано право народа на восстание.)
Вместо майората и персонализма демократическое государство должно постоянно провоцировать и стимулировать демократическое участие, что оно может делать, лишь обладая сильной деспотической властью. Парадоксальным образом только такая сильная и авторитетная власть способна самоустраниться, вычеркнуть себя из политического процесса до тех пор, пока режиму не угрожает экзистенциальная опасность. Другими словами, демократическое государство совершает выход за собственные рамки путем, противоположным модели Карла Шмитта, где оно чрезвычайным образом подвешивает право. Демократическое государство выходит за собственные границы, ограничивая себя и утверждая право, — модель, которую задолго до Шмитта, в конце XIX века, описал немецкий философ права Георг
Йеллинек.
Получается диалектическая теория государства, точнее, теория левого авторитарного социал-демократического государства (ЛАСДГ), уже изложенная мной в виде проекта, конституцию которого я снова кратко набросаю:
- ЛАСДГ учреждает и поддерживает демократические советы на каждом уровне — от муниципалитета и совета трудового коллектива на каждом предприятии до центрального совета.
- Советы обладают средствами массовой информации, поддерживаемыми государством.
- Формирование первичных советов осуществляется путем самовыдвижения и выборов.
- Формирование остальных советов осуществляется путем делегирования из нижестоящих советов и вышестоящих советов.
- Сохраняется традиционное разделение законодательной и исполнительной власти. Исполнительные должности (в том числе на предприятиях) занимаются членами соответствующих советов на три года, на основе ротации по жребию.
- Обеспечивается неограниченное право на демонстрации, государство поддерживает партии и некоммерческие организации.
- В обязательное школьное образование входят курсы лидерства, управления и коллективной делиберации, преподаваемые депутатами соответствующих советов.
- Учреждаются суды присяжных с неограниченной юрисдикцией.
- Верховный совет и/или входящий в него глава исполнительной власти (консул) имеют прерогативу, то есть могут, объявив чрезвычайное положение, распустить нижестоящий совет (назначив новые выборы) и прибегнуть к силе для подавления вооруженного выступления в случае угрозы свержения строя ЛАСДГ.
- Любой совет может призвать к открытым судебным слушаниям по поводу разногласий с Верховным советом и консулом, а если решение кажется неправосудным, призвать к восстанию и свержению указанной верховной власти. В обоих случаях соблюдается определенная процедура: несогласным предоставляется государственная информационная платформа для информирования о своей позиции. При соблюдении этой процедуры случаи насилия со стороны восставших подавляются насилием, но не ведут к уголовному преследованию.
Как видим, кроме порядка формирования советов, демократизации экономических предприятий и права на восстание, данная конституция не так уж сильно отличается от действующих, и даже во многом напоминает регламент Евросоюза. Моя задача двояка: во-первых, отразить те реальные политические процессы, которых обычные конституции не замечают, а во-вторых, предложить утопическую реализацию тех форм самоуправления, которые эти конституции формально заявляют и обещают, — но не теряя (в отличие от ортодоксального марксизма) момент политической формы и самодеятельности коллективного субъекта.
Радикально-демократические формы, так же как и социалистические реформы, требуют сильной власти для их насаждения. Парадокс, но демократия в сильном смысле слова может быть реализована только сверху, при том что она на следующем этапе обязательно приводит к подрыву подтолкнувшей ее власти. Поэтому
ЛАСДГ, помимо конституции, требует от политических лидеров своеобразной диалектической добродетели сродни платоновскому «тюмосу» — способности резко переходить от провокации и толерантной благожелательности к подавлению и обратно. При этом лидерство не изолировано в центре, но воспроизводится на нижних уровнях: демократия состоит не в том, что массы не дают править верхушке, а в том, что каждый умеет быть и лидером, и критическим рядовым гражданином.
Радикально-демократические формы, так же как и социалистические реформы, требуют сильной власти для их насаждения. Парадокс, но демократия в сильном смысле слова может быть реализована только сверху, при том что она на следующем этапе обязательно приводит к подрыву подтолкнувшей ее власти. Поэтому
ЛАСДГ, помимо конституции, требует от политических лидеров своеобразной диалектической добродетели сродни платоновскому «тюмосу» — способности резко переходить от провокации и толерантной благожелательности к подавлению и обратно. При этом лидерство не изолировано в центре, но воспроизводится на нижних уровнях: демократия состоит не в том, что массы не дают править верхушке, а в том, что каждый умеет быть и лидером, и критическим рядовым гражданином.
4. Заключение
Эта статья исходит из проблемы отсутствия у левых положительного образа государства и развернутой теории политической демократии, отличной от ныне провозглашенной. Существующие теории «радикальной» демократии негласно предполагают наличие на заднем плане нынешнего государства, но откуда уверенность, что это государство будет заинтересовано в радикализации демократии? Отсюда попытка прописать ее в самой конституции такого государства.
Современные левые движения в основном наследуют тем или иным формам марксизма и несут многие его родимые пятна, в частности веру в преходящесть государства и крайне смутные представления о будущем. Поэтому я и счел нужным вернуться к марксизму и, более конкретно, к Марксу, чтобы поискать
у него — вслед за Абенсуром, но вопреки ему—теорию политической демократии. Маркс не дает рецептов, но он ставит важнейшую проблему взаимной детерминации и конститутивной оппозиции между государством и гражданским обществом, которую предлагает решить через буквализацию формальных обещаний либерально-консервативного государства, реализацию фикций и формализацию де-факто существующих в обществе эмансипаторных практик. Именно эту методологическую программу я и беру на вооружение, переходя в конце к рискованному делу политического проектирования. Предлагаемый мной проект основывается на диалектической логике, то есть принимает в расчет неизбежную для политики рефлексию институтов на самих себя и парадоксальность современной, ультрарефлексивной политической формы — демократии.
Современные левые движения в основном наследуют тем или иным формам марксизма и несут многие его родимые пятна, в частности веру в преходящесть государства и крайне смутные представления о будущем. Поэтому я и счел нужным вернуться к марксизму и, более конкретно, к Марксу, чтобы поискать
у него — вслед за Абенсуром, но вопреки ему—теорию политической демократии. Маркс не дает рецептов, но он ставит важнейшую проблему взаимной детерминации и конститутивной оппозиции между государством и гражданским обществом, которую предлагает решить через буквализацию формальных обещаний либерально-консервативного государства, реализацию фикций и формализацию де-факто существующих в обществе эмансипаторных практик. Именно эту методологическую программу я и беру на вооружение, переходя в конце к рискованному делу политического проектирования. Предлагаемый мной проект основывается на диалектической логике, то есть принимает в расчет неизбежную для политики рефлексию институтов на самих себя и парадоксальность современной, ультрарефлексивной политической формы — демократии.
~
В статье использовались положения из авторских работ: