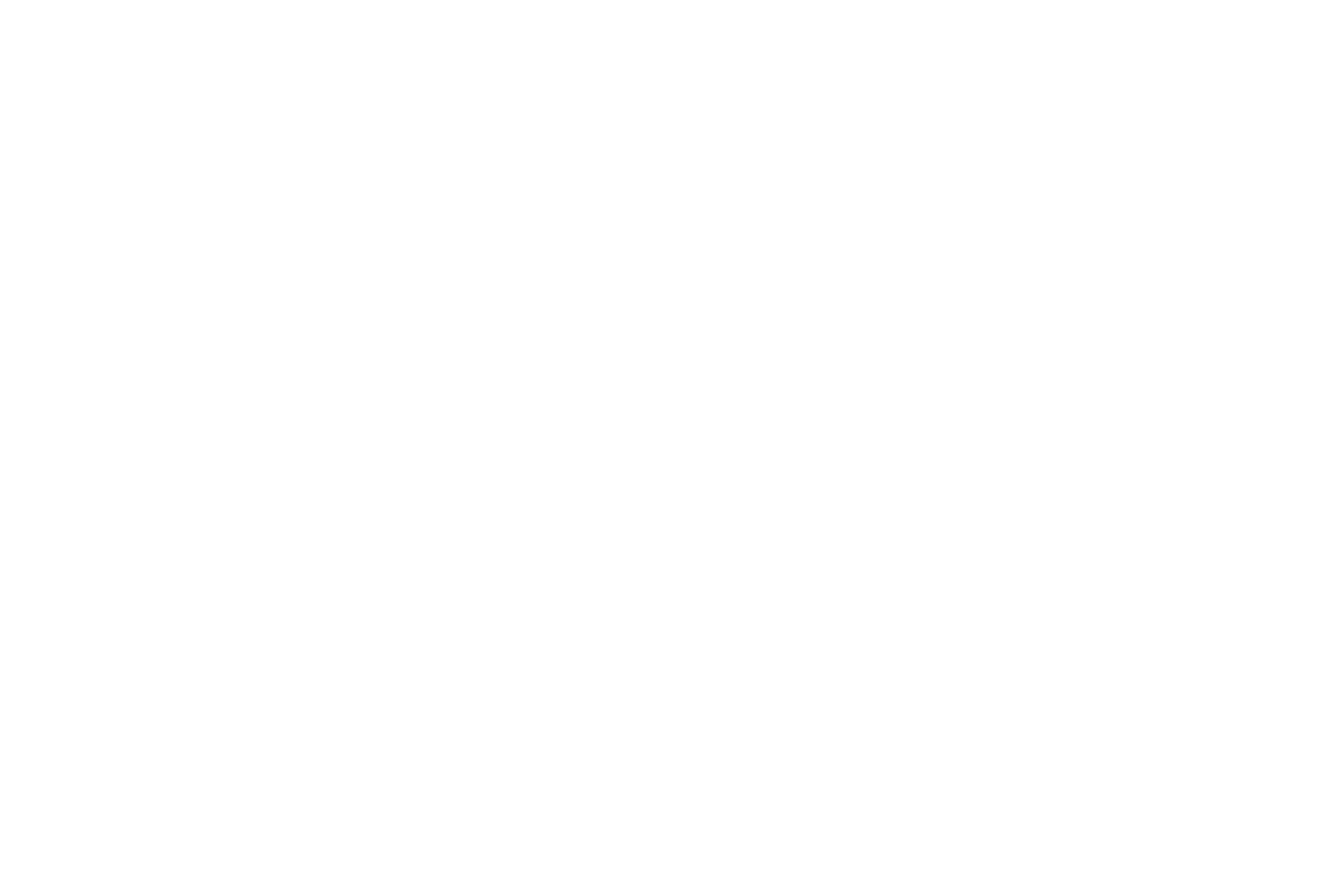© 2019 Strategic Group.Media
ИДЕИ БЕЗ ВЛАСТИ
Недавняя работа в области политической экономии все больше концентрировалась на роли идей и экспертов в стимулировании консолидации неолиберализма. В этом эссе утверждается, что поворот, основанный на идеях, аналитически благоговейный и политически изнурительный. Аналитически это оттеняет те властные отношения, которые фактически породили и поддержали неолиберальный проект. Политически, привлекая внимание к дискурсу, а не к социальным силам, это уменьшает шансы на организацию коалиции против неолиберализма.
В течение последних двадцати пяти лет значительная часть экономической повестки левых была организована вокруг критики неолиберализма и борьбы с ним. Исследования в области политической экономии имеют возможность информировать и помогать в этой борьбе, раскрывая расстановку сил за неолиберальным поворотом и его стойкость перед лицом экономического кризиса и политических вызовов. Все чаще это исследование указывает пальцем на роль неолиберальных идей, а также экспертов и интеллектуалов, которые их провозглашают, как движущей силы. Согласно этой новой политической экономике, основанной на идеях, демонтаж существующих государственных аппаратов для защиты наиболее уязвимых слоев общества, привилегирование капитала перед трудом и постоянный приток денег к пику распределения доходов объясняются огромным влиянием, которое экономические эксперты и либертарианские политические теоретики сейчас играют в определении политических программ и разработке политики.
В этом эссе выдвигаются два основных утверждения об ориентированном на идею повороте в изучении роста и упорства неолиберализма. Во-первых, несмотря на то, что он дал богатые и подробные исследования важных аспектов неолиберального проекта, все эти богатые детали затенены настолько, насколько они освещают силы, стоящие за неолиберальным поворотом. Ученые, работающие в этом ключе, утверждают, что нам нужно обращать внимание на идеи, потому что только при этом мы полностью поймем силы, стоящие за неолиберальным поворотом. Но, учитывая, что ни один серьезный ученый не станет оспаривать утверждение о том, что идеи имеют значение, для того, чтобы придать их работе необходимые научные знания, которые требуются общественным наукам, эта работа делает еще один шаг вперед и утверждает, что идеи - это не только причинная сила, отличная от материальных факторов, а что они являются основной силой, стоящей за неолиберальным поворотом. Попытка понять силу идей вне баланса материальных сил мешает нам правильно понять природу роста и устойчивости неолиберализма. В конечном итоге это заслоняет отношения между материальными и идейными силами, которые сместили баланс политических сил к неолиберальным целям.
Во-вторых, сосредоточение внимания на идеях, экспертах и интеллектуалах политически разоружает; это не только уменьшает способность левых проводить критический анализ неолиберализма, но и делает его более устойчивым, скрывая асимметрию материальной власти, которая лежит в его основе. Основополагающая предпосылка идейно-ориентированной критики неолиберализма заключается в том, что все его пагубные последствия - обогащение немногих за счет многих, демонтаж общественных социальных защит, дегуманизация нашего жизненного опыта - являются результатом плохих идей. Из этого следует, что хорошие идеи являются решением. Эта мысль может быть привлекательной для некоторых академических критиков неолиберализма, поскольку она дает возможность устранить ущерб, нанесенный одним набором интеллектуалов другому, прогрессивному набору интеллектуалов. Однако в действительности
В этом эссе выдвигаются два основных утверждения об ориентированном на идею повороте в изучении роста и упорства неолиберализма. Во-первых, несмотря на то, что он дал богатые и подробные исследования важных аспектов неолиберального проекта, все эти богатые детали затенены настолько, насколько они освещают силы, стоящие за неолиберальным поворотом. Ученые, работающие в этом ключе, утверждают, что нам нужно обращать внимание на идеи, потому что только при этом мы полностью поймем силы, стоящие за неолиберальным поворотом. Но, учитывая, что ни один серьезный ученый не станет оспаривать утверждение о том, что идеи имеют значение, для того, чтобы придать их работе необходимые научные знания, которые требуются общественным наукам, эта работа делает еще один шаг вперед и утверждает, что идеи - это не только причинная сила, отличная от материальных факторов, а что они являются основной силой, стоящей за неолиберальным поворотом. Попытка понять силу идей вне баланса материальных сил мешает нам правильно понять природу роста и устойчивости неолиберализма. В конечном итоге это заслоняет отношения между материальными и идейными силами, которые сместили баланс политических сил к неолиберальным целям.
Во-вторых, сосредоточение внимания на идеях, экспертах и интеллектуалах политически разоружает; это не только уменьшает способность левых проводить критический анализ неолиберализма, но и делает его более устойчивым, скрывая асимметрию материальной власти, которая лежит в его основе. Основополагающая предпосылка идейно-ориентированной критики неолиберализма заключается в том, что все его пагубные последствия - обогащение немногих за счет многих, демонтаж общественных социальных защит, дегуманизация нашего жизненного опыта - являются результатом плохих идей. Из этого следует, что хорошие идеи являются решением. Эта мысль может быть привлекательной для некоторых академических критиков неолиберализма, поскольку она дает возможность устранить ущерб, нанесенный одним набором интеллектуалов другому, прогрессивному набору интеллектуалов. Однако в действительности
изучение политической экономии через призму, основанную на идеях, ослабляет антинеолиберальную проблему, скрывая институциональную и структурную динамику, которая дала неолиберальным идеям материальную базу для роста и процветания, и усиливая пагубную элиту неолиберализма, заменяет один вид интеллектуального спасителя другим.
Академический багаж, созданный на основе культурной или идеологической структуры, представляет собой массу книг, эссе и исследовательских статей, слишком больших, чтобы их можно было сопоставить в одном эссе. Чтобы продвинуть эти утверждения, это эссе фокусируется на нескольких ключевых работах в масштабе книги, продвигающих идеальные описания роста, консолидации и потенциальной трансформации неолиберализма, которые были опубликованы за последние двадцать лет или около того. Хотя этот опрос не является исчерпывающим, он представляет собой справедливое представление основных тем и аргументов идея-центричной политической экономики.
ПОЧЕМУ ЖЕ ФОКУС НА ИДЕЯХ?
Есть два способа, которыми нужно читать этот вопрос: почему распространяются идея-центричные мнения о политико-экономических изменениях и, что более важно, почему левые должны быть озабочены этим? Что касается первого вопроса, не участвуя в полноценной «истории вопроса», то некоторые ключевые моменты стоит выделить, поскольку они становятся полезными для понимания структуры некоторых идейно-ориентированных аргументов, рассмотренных ниже. Во-первых, поворот к идея-центричных исследований политической экономии должен быть контекстуализирован в рамках преобладающих перспектив американской политической науки, на что он является прямым ответом. В американских политических науках, особенно в изучении международной политики, преобладает реализм, теоретический подход, который, помимо прочего, настаивает на том, что поведение действующих лиц можно понимать как рациональный ответ на национальные, структурные интересы и довольно простой набор материальный внешних фаткоров. В то время как это приводит к изящным, экономным отчетам о сложных событиях, его главной движущей силой является неудовлетворительно пустой «черный ящик», называемый «национальным интересом». Прочитайте отчет о росте неолиберализма, который связывает его с «интересами США», и вы испытаете неудовлетворенность реализма. Относясь серьезно к идеям, убеждениям и культурным контекстам, которые легли в основу решений, принимаемых политическими деятелями, некоторые ученые поставили под сомнение объективно известный статус национальных интересов и убедительно доказали, что такая конструкция, если она имеет силу, была чисто субъективным явлением, определяемым идеями, убеждениями, нормама и ценностями акторов.
Во-вторых, хотя определения неолиберализма похожи на снежинки (нет двух абсолютно одинаковых), они имеют тенденцию группироваться вокруг двух элементов. Большинство из них включают общий набор материальных результатов, связанных с экономической политикой: дерегулирование, снижение налогов, растущий уровень неравенства, стагнация заработной платы. Когда ученые начали концентрироваться на роли идей, экспертов и интеллектуалов в неолиберализации, термин «неолиберал» начал применяться к любому рационалистическому, технократическому, управляемому экспертами процессу выработки политики. Это побудило студентов политической экономии обратить свое внимание на технократов, экономистов, интеллектуалов и других пропагандистов политических идей.
В-третьих, дискуссия об идеях и материальных силах почти так же стара, как само изучение политической экономии, и, таким образом, выступает в качестве легкой цели для ученых, которые существуют в профессиональном мире, который придает большое значение «теоретическим инновациям» и разбору относительных эффектов различных переменных. Для ученых-социологов недостаточно использовать существующие теории, чтобы исследовать закоулки необъятных, неисследованных вод глобальной истории неолиберализма; каждый случай, каждая политика, каждый результат должен продвигать теорию неолиберализма, различая и ранжируя важность факторов.
Эти три фактора дали ученым, заинтересованным в идеологических и культурных аспектах неолиберализма, теоретический краеугольный камень, на котором можно строить, и профессиональную мотивацию для продвижения этой исследовательской программы. Но они не полностью объясняют рвение, с которым проводилось это исследование, и его популярность в академии. Чтобы достичь этого, нам нужно понять, что идеологический поворот предлагает нечто столь же политически привлекательное, как и интеллектуально убедительное. Все тексты, представленные здесь, объединены не только тем, что они акцентируют внимание на идеологических и культурных представлениях о неолиберализме, но и критикой истории неолиберализма.
И все же, несмотря на то, что это мотивировано искренней заботой о вреде, который нанес неолиберализм, создание критики неолиберализма в рамках идея-ориентированной концепции, является одновременно политическим разоружением и усиливает пагубные аспекты неолиберального проекта. Один из повторяющихся моментов, который вытекает из внимательного прочтения идейно-ориентированных представлений о политических и экономических изменениях, заключается в том, что материалистический социальный контекст - структура социальных различий, сформированных по экономическим линиям, и то, как власть распределяется между этими разногласиями - оказывает большое влияние, влияние как на содержание идей, так и на их относительное влияние. Неолиберальная политико-экономическая повестка дня, как и другие ранее, продвигается через благоприятный баланс социальных сил, одновременно пытаясь скрыть роль, которую власть и материальное преимущество играют в ее успехе. Если сила и устойчивость элитарной, прокапитальной и дегуманизирующей политики и практики, которые часто обобщаются как «неолиберальные», сводятся или в основном объясняются как воздействие идей, а эти идеи не основаны на балансе материальных сил, которые придают им форму и влияние, тогда можно легко уйти с впечатлением, что решение проблемы неолиберализма находится в интеллектуальных дебатах и критике, а не в том, что действительно необходимо: политической мобилизации.
Например идея-центричные исследования, которые говорят нам, что, конечно, мировая экономика была наводнена финансовым капиталом, а рынки были недостаточно отрегулированы, но реальная причина экономического кризиса 2008 года заключалась в том, что банкиры и регуляторы были сбиты с толку экономической теорией и чрезмерной верой в математическое моделирование. Если мы примем эту версию событий, тогда финансовая элита не нуждается в личном восседании, им просто нужно нанять разных аналитиков с докторской степенью из более разнообразных экономических программ.
Эти политические последствия более четко и проблематично проявляются в подмножестве идейно-ориентированной политической экономии, которая позиционирует идеи как основную причинную силу политических перемен и действует независимо от материальных сил. Существует другая, более крупная часть этой работы, в которой слабее претендуют на автономную власть идей, признавая важность материальных факторов в придании идеям содержания и влияния. Тем не менее, эти работы настаивают на том, что идеи по-прежнему первичны в ущерб политическим и экономическим влияниям. Оба подхода оказываются бесполезными: первый потому, что он просто игнорирует или обходит стороной материальные факторы, а второй - потому что он скручивается в аналитические узлы, чтобы поднять идеи над политическими, экономическими и другими материальными силами.
Во-вторых, хотя определения неолиберализма похожи на снежинки (нет двух абсолютно одинаковых), они имеют тенденцию группироваться вокруг двух элементов. Большинство из них включают общий набор материальных результатов, связанных с экономической политикой: дерегулирование, снижение налогов, растущий уровень неравенства, стагнация заработной платы. Когда ученые начали концентрироваться на роли идей, экспертов и интеллектуалов в неолиберализации, термин «неолиберал» начал применяться к любому рационалистическому, технократическому, управляемому экспертами процессу выработки политики. Это побудило студентов политической экономии обратить свое внимание на технократов, экономистов, интеллектуалов и других пропагандистов политических идей.
В-третьих, дискуссия об идеях и материальных силах почти так же стара, как само изучение политической экономии, и, таким образом, выступает в качестве легкой цели для ученых, которые существуют в профессиональном мире, который придает большое значение «теоретическим инновациям» и разбору относительных эффектов различных переменных. Для ученых-социологов недостаточно использовать существующие теории, чтобы исследовать закоулки необъятных, неисследованных вод глобальной истории неолиберализма; каждый случай, каждая политика, каждый результат должен продвигать теорию неолиберализма, различая и ранжируя важность факторов.
Эти три фактора дали ученым, заинтересованным в идеологических и культурных аспектах неолиберализма, теоретический краеугольный камень, на котором можно строить, и профессиональную мотивацию для продвижения этой исследовательской программы. Но они не полностью объясняют рвение, с которым проводилось это исследование, и его популярность в академии. Чтобы достичь этого, нам нужно понять, что идеологический поворот предлагает нечто столь же политически привлекательное, как и интеллектуально убедительное. Все тексты, представленные здесь, объединены не только тем, что они акцентируют внимание на идеологических и культурных представлениях о неолиберализме, но и критикой истории неолиберализма.
И все же, несмотря на то, что это мотивировано искренней заботой о вреде, который нанес неолиберализм, создание критики неолиберализма в рамках идея-ориентированной концепции, является одновременно политическим разоружением и усиливает пагубные аспекты неолиберального проекта. Один из повторяющихся моментов, который вытекает из внимательного прочтения идейно-ориентированных представлений о политических и экономических изменениях, заключается в том, что материалистический социальный контекст - структура социальных различий, сформированных по экономическим линиям, и то, как власть распределяется между этими разногласиями - оказывает большое влияние, влияние как на содержание идей, так и на их относительное влияние. Неолиберальная политико-экономическая повестка дня, как и другие ранее, продвигается через благоприятный баланс социальных сил, одновременно пытаясь скрыть роль, которую власть и материальное преимущество играют в ее успехе. Если сила и устойчивость элитарной, прокапитальной и дегуманизирующей политики и практики, которые часто обобщаются как «неолиберальные», сводятся или в основном объясняются как воздействие идей, а эти идеи не основаны на балансе материальных сил, которые придают им форму и влияние, тогда можно легко уйти с впечатлением, что решение проблемы неолиберализма находится в интеллектуальных дебатах и критике, а не в том, что действительно необходимо: политической мобилизации.
Например идея-центричные исследования, которые говорят нам, что, конечно, мировая экономика была наводнена финансовым капиталом, а рынки были недостаточно отрегулированы, но реальная причина экономического кризиса 2008 года заключалась в том, что банкиры и регуляторы были сбиты с толку экономической теорией и чрезмерной верой в математическое моделирование. Если мы примем эту версию событий, тогда финансовая элита не нуждается в личном восседании, им просто нужно нанять разных аналитиков с докторской степенью из более разнообразных экономических программ.
Эти политические последствия более четко и проблематично проявляются в подмножестве идейно-ориентированной политической экономии, которая позиционирует идеи как основную причинную силу политических перемен и действует независимо от материальных сил. Существует другая, более крупная часть этой работы, в которой слабее претендуют на автономную власть идей, признавая важность материальных факторов в придании идеям содержания и влияния. Тем не менее, эти работы настаивают на том, что идеи по-прежнему первичны в ущерб политическим и экономическим влияниям. Оба подхода оказываются бесполезными: первый потому, что он просто игнорирует или обходит стороной материальные факторы, а второй - потому что он скручивается в аналитические узлы, чтобы поднять идеи над политическими, экономическими и другими материальными силами.
ИДЕИ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОБЕЛА
Хотя «Великие трансформации» Марка Блайта не были первыми, кто предложил идея-центричный отчет о неолиберальном повороте, он способствовал недавнему всплеску политической экономии, основанной на идеях, и, таким образом, служит полезной отправной точкой для этого обсуждения. Как и другие политэкономисты, Блит утверждает, что переходы из одной политико-экономической эпохи в другую вызваны глубоким, прерывистым кризисом. Тем не менее, в то время как реалистическая политология воображает совершенно рациональных субъектов, подходящих к кризису, как и любая другая проблема, подлежащая решению, Блит ставит под сомнение эту основную предпосылку. Политические деятели не рациональны, утверждает он, а скорее полагаются на преобладающие нормы и идеи, чтобы служить своего рода «инструктивным листом», которому они следуют. В моменты кризиса доминирующие модели управления экономикой терпят неудачу, в результате чего политические деятели пытаются понять характер проблем, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. Это открывает возможность некогда обособленным экспертам и интеллектуалам наметить новый путь вперед, написав новый, работоспособный лист инструкций.
Великие трансформации развивают этот аргумент в течение двух эпох кризиса и политических изменений в США и Швеции, чтобы показать независимую причинную роль, которую идеи играли в подъеме кейнсианства после Великой депрессии и возвращении монетаристских и рыночных экономических идей после кризисов 1970-х годов. Фискальная осторожность, к которой призывала классическая либеральная ортодоксальность, не смогла снизить безработицу и восстановить экономический рост во время депрессии в США. Выборы ФДР принесли новый, «недопотребительский» способ понимания причин экономической стагнации, который предусматривал инструкции по расходам на общественные работы, поддержку организованного труда и страхование по старости. К концу II-й мировой войны стагнационистское мышление было заменено новым «умением роста», которое наметило долгосрочный курс устойчивого, мирного экономического роста через активную контрциклическую политику государства по кейнсианскому принципу. Кейнсианство доминировало в разработке экономической политики США, пока на него не оказывалось давление со стороны внешнего кризиса, в частности, кризиса «стагфляции» 1970-х годов. Невозможноcсть предложить способ управления экономикой из-за перегрева, вызванного войной во Вьетнаме и потрясений, вызванных разрушением Бреттон-Вудской системы. Звезда кейнсианства упала, когда новые экономические доктрины стали известными. Монетаризм, теория рационального выбора, макроэкономическое управление на стороне предложения и теория общественного выбора предложили якобы выход из тупика стагфляции, хотя тот требовал резко сократить роль государства и поднять частный бизнес, работающий в освобожденных рынках.
Великие трансформации являются знаковым исследованием идеологического поворота в политической экономии, поскольку они дают веский аргумент в пользу независимой причинной роли идей в объяснении основных сдвигов в экономической политике. В то время как Блит, безусловно, успешно освещает ключевые дебаты в эти критические периоды, он не получает поддержки для сильного идеального прочтения кейнсианского, а затем и неолиберального поворота, который он и другие утверждают. Чтобы придерживаться сильных идейных аргументов, недостаточно показать, что некоторые идеи имеют значение для каких-то социальных или политических изменений. Скорее, нужно иметь возможность поддержать две дополнительные претензии. Во-первых, формирование, распространение и обсуждение различных политических идей можно объяснить независимо от других материальных сил.
Материалистическая политическая экономия, от которой Блит пытается оторваться, не отрицает, что в выработке экономической политики есть важный идеологический компонент того типа, который описывает Блит, но также настаивает на том, чтобы материальные социальные факторы играли мощную роль в установлении повестки дня, ограничивая сферу действия политики, политических дебатов. Во-вторых, сильный идейный аргумент должен быть в состоянии объяснить, почему один набор идей побеждает другие конкурирующие идеи в чисто идеалистических терминах.
Великие трансформации развивают этот аргумент в течение двух эпох кризиса и политических изменений в США и Швеции, чтобы показать независимую причинную роль, которую идеи играли в подъеме кейнсианства после Великой депрессии и возвращении монетаристских и рыночных экономических идей после кризисов 1970-х годов. Фискальная осторожность, к которой призывала классическая либеральная ортодоксальность, не смогла снизить безработицу и восстановить экономический рост во время депрессии в США. Выборы ФДР принесли новый, «недопотребительский» способ понимания причин экономической стагнации, который предусматривал инструкции по расходам на общественные работы, поддержку организованного труда и страхование по старости. К концу II-й мировой войны стагнационистское мышление было заменено новым «умением роста», которое наметило долгосрочный курс устойчивого, мирного экономического роста через активную контрциклическую политику государства по кейнсианскому принципу. Кейнсианство доминировало в разработке экономической политики США, пока на него не оказывалось давление со стороны внешнего кризиса, в частности, кризиса «стагфляции» 1970-х годов. Невозможноcсть предложить способ управления экономикой из-за перегрева, вызванного войной во Вьетнаме и потрясений, вызванных разрушением Бреттон-Вудской системы. Звезда кейнсианства упала, когда новые экономические доктрины стали известными. Монетаризм, теория рационального выбора, макроэкономическое управление на стороне предложения и теория общественного выбора предложили якобы выход из тупика стагфляции, хотя тот требовал резко сократить роль государства и поднять частный бизнес, работающий в освобожденных рынках.
Великие трансформации являются знаковым исследованием идеологического поворота в политической экономии, поскольку они дают веский аргумент в пользу независимой причинной роли идей в объяснении основных сдвигов в экономической политике. В то время как Блит, безусловно, успешно освещает ключевые дебаты в эти критические периоды, он не получает поддержки для сильного идеального прочтения кейнсианского, а затем и неолиберального поворота, который он и другие утверждают. Чтобы придерживаться сильных идейных аргументов, недостаточно показать, что некоторые идеи имеют значение для каких-то социальных или политических изменений. Скорее, нужно иметь возможность поддержать две дополнительные претензии. Во-первых, формирование, распространение и обсуждение различных политических идей можно объяснить независимо от других материальных сил.
Материалистическая политическая экономия, от которой Блит пытается оторваться, не отрицает, что в выработке экономической политики есть важный идеологический компонент того типа, который описывает Блит, но также настаивает на том, чтобы материальные социальные факторы играли мощную роль в установлении повестки дня, ограничивая сферу действия политики, политических дебатов. Во-вторых, сильный идейный аргумент должен быть в состоянии объяснить, почему один набор идей побеждает другие конкурирующие идеи в чисто идеалистических терминах.
Сильный идейный аргумент предполагает, что победа одной идеи над другой может быть объяснена характером самой идеи, а не силой или положением актеров, которые отстаивают ее.
Великие Трансформации пресекаются по обоим пунктам. Блит пытается дать эту историю кризиса и изменить идеализированный ее блеск, но его собственное обсуждение показывает, что идеи имели значение только в контексте баланса политических сил. Об этом свидетельствует собственное обсуждение Блайтом двух ранних законодательных актов Нового курса: Национальный закон о восстановлении промышленности (NIRA) и Закон о регулировании сельского хозяйства (AAA). Цель обоих актов состояла в том, чтобы остановить нисходящую спираль дефляции путем стабилизации цен. Как отмечает Блит, оба акта были основаны на так называемом «тезисе об управляемых ценах», который призывал государство помочь в картелизации экономики, чтобы крупные фирмы могли устанавливать цены на оптимальных уровнях. NIRA стремилась применить эту теорию на практике, облегчая сотрудничество и координацию в установлении объемов производства и цен между крупными промышленными фирмами и увеличивая расходы на общественные работы, чтобы потребители могли покупать товары по этим вновь введенным ценам. ААА стремилась к одним и тем же целям через несколько иные средства. Поскольку сельское хозяйство США все еще состояло из множества мелких производителей, было трудно добиться координации цен между фермерами. Вместо этого ААА призвала государство установить сельскохозяйственные цены на высоком уровне и платить за сельскохозяйственную продукцию по этим ценам.
Оба акта опирался на тот же набор экономических идей, но в то время как AAA работал в основном, как было задумано, то NIRA оказался глубоко спорными и основные положения вокруг промышленного производства и согласования цен никогда не были реализованы. Почему такие расходящиеся результаты? Предоставляя ответ на этот вопрос, Блит показывает, что встроенный либеральный капиталистический порядок, возникший из внедрений Нового курса, был в такой же степени продуктом власти и интересов различных социальных классов, как и экономические теории, циркулирующие в администрации Рузвельта. Что касается NIRA, Блайт отмечает, что основные бизнес-группы США, такие как Американская торговая палата и Деловой консультативный совет, первоначально приветствовали предложенное законодательство, но стали враждебными к нему по мере его формирования. В то время как администрирование ценообразования работало хорошо для крупных фирм, более мелкие фирмы терпели убытки и начали громко высказывать свое несогласие. Во-вторых, и это, возможно, было еще более важно, NIRA также содержала положения, которые были очень полезны для организованного труда, в том числе право создавать профсоюзы и вести коллективные переговоры со своим работодателем, а также право федерального правительства устанавливать справедливые трудовые стандарты и навязывать их по отраслям, охватываемым законом. В конечном итоге Верховный суд отклонил положения NIRA о цене и выпуске продукции, но к этому моменту бизнес стал настолько враждебным по отношению к администрации Рузвельта, что любая надежда на добровольное сотрудничество уже была потеряна. Успех ААА стал зеркальным отражением неудачи NIRA. Даже если фермеры были достаточно организованы, чтобы эффективно противостоять административному ценообразованию (а это не так), привлечение их в коалицию Нового курса было контрпродуктивным. Как видно из положений, касающихся труда, содержащихся в NIRA, экономическая программа Нового курса была основана на создании политической коалиции с промышленным трудом; поддержка покупательной способности промышленного рабочего класса имела первостепенное значение.
Блит настаивает на том, что этот сравнительный анализ показывает, что именно благодаря идеям создаются работоспособные политические коалиции, на которых строятся политические режимы. И в этом, безусловно, есть доля правды: формулирование различных и зачастую сложных политик и положений, появившихся в первые дни Нового курса в качестве решений проблем ценовой нестабильности и недопотребления, ясно показало не только то, как эти программы предполагались чтобы вывести страну из депрессии, но кому они лучше всего послужат. Но это только одна сторона медали. То, что Блайт рассказывает также, хотя он никогда не рассматривал это явно, заключается в том, что
Оба акта опирался на тот же набор экономических идей, но в то время как AAA работал в основном, как было задумано, то NIRA оказался глубоко спорными и основные положения вокруг промышленного производства и согласования цен никогда не были реализованы. Почему такие расходящиеся результаты? Предоставляя ответ на этот вопрос, Блит показывает, что встроенный либеральный капиталистический порядок, возникший из внедрений Нового курса, был в такой же степени продуктом власти и интересов различных социальных классов, как и экономические теории, циркулирующие в администрации Рузвельта. Что касается NIRA, Блайт отмечает, что основные бизнес-группы США, такие как Американская торговая палата и Деловой консультативный совет, первоначально приветствовали предложенное законодательство, но стали враждебными к нему по мере его формирования. В то время как администрирование ценообразования работало хорошо для крупных фирм, более мелкие фирмы терпели убытки и начали громко высказывать свое несогласие. Во-вторых, и это, возможно, было еще более важно, NIRA также содержала положения, которые были очень полезны для организованного труда, в том числе право создавать профсоюзы и вести коллективные переговоры со своим работодателем, а также право федерального правительства устанавливать справедливые трудовые стандарты и навязывать их по отраслям, охватываемым законом. В конечном итоге Верховный суд отклонил положения NIRA о цене и выпуске продукции, но к этому моменту бизнес стал настолько враждебным по отношению к администрации Рузвельта, что любая надежда на добровольное сотрудничество уже была потеряна. Успех ААА стал зеркальным отражением неудачи NIRA. Даже если фермеры были достаточно организованы, чтобы эффективно противостоять административному ценообразованию (а это не так), привлечение их в коалицию Нового курса было контрпродуктивным. Как видно из положений, касающихся труда, содержащихся в NIRA, экономическая программа Нового курса была основана на создании политической коалиции с промышленным трудом; поддержка покупательной способности промышленного рабочего класса имела первостепенное значение.
Блит настаивает на том, что этот сравнительный анализ показывает, что именно благодаря идеям создаются работоспособные политические коалиции, на которых строятся политические режимы. И в этом, безусловно, есть доля правды: формулирование различных и зачастую сложных политик и положений, появившихся в первые дни Нового курса в качестве решений проблем ценовой нестабильности и недопотребления, ясно показало не только то, как эти программы предполагались чтобы вывести страну из депрессии, но кому они лучше всего послужат. Но это только одна сторона медали. То, что Блайт рассказывает также, хотя он никогда не рассматривал это явно, заключается в том, что
идеи, заложенные в ранние нововведения политики Нового курса, сами были сформированы структурами промышленности и сельского хозяйства США и силой конкурирующих экономических классов. Именно потому, что рабочая сила США была организована и воинственна, администрация Рузвельта искала экономическую программу, которая создала бы союз с рабочим классом
Политический потенциал социальных классов не только влиял на то, какая политика работала, а какая отказывала, - это также влияло на то, как разрабатывались и какие политики были продвинуты.
Недавняя блайтовская "Строгость: история опасной идеи" омрачена той же аналитической неравномерностью. Книга является самой сильной в своих первых главах, где Блит разбирает два основных мифа о жесткой экономии. Во-первых, несмотря на то, что политика жесткой экономии сформулирована на языке «общей жертвы», в действительности это классовая политика, приносящая пользу финансовой элите перед бедным и рабочим классом. Во-вторых, жесткая экономия основывается на ложном диагнозе причин экономического кризиса, а именно на том, что правительство «перерасходует». Неудивительно, что, несмотря на то, что экономия способствует дальнейшему обогащению финансистов, она не восстанавливает экономический рост. Повсюду Блит гораздо более откровенен в отношении политической природы этой экономической политики, чем в «Великих трансформациях». Он удостоверяется, что мы понимаем, что экономия - это экономическое перераспределение под видом экономической стабилизации. Как и в случае с Великими Трансформациями, есть места, где его аргумент указывает на основную политическую или институциональную силу, стоящую за поворотом к жесткой экономии. Блит отмечает, что принципы «надежного финансирования» наиболее четко сформулированы банковским сообществом в США и министерством финансов в Великобритании. Германия, отмечает он, является домом ордолиберализма, потому что в структурном отношении она имеет вид экономики, в которой работает ордолиберализм (прим ред. Смысл ордолиберального учения сводится к тому, что "государство в сущности ограничивается формированием экономического строя, тогда как само по себе регулирование и ход хозяйственного процесса происходят спонтанно").
Принимая во внимание это четкое признание того, что жесткая экономия - это такой же политический проект, как и интеллектуальный, можно разумно ожидать, что Блайт создаст историю подъема и устойчивости экономики перед лицом неудачи, которая объединяет идеи жесткой экономии и структурные и исторические факторы, которые дали сторонникам жесткой экономии силу в реализации этих идей. В конце концов, однако, книга изнурена настойчивостью, что история жесткой экономии может быть рассказана как история идей. В последующих главах прослеживается интеллектуальное происхождение строгой экономии от классической политической экономии (Локка, Юма и Смита), затем к Новолиберальным, австрийским и американским «ликвидаторским» школам начала двадцатого века, а затем завоевание позиции немецкого ордолиберализма после Второй мировой войны и укрепление ее интеллектуальной базы с ростом монетаризма и теории общественного выбора в 1970-х годах. Повсюду Блит использует метафору «инструкции», использованную в «Великой» для придания этим идеям причинного значения. Однако, в отличие от «Великих трансформаций», где Блит предпринял некоторые шаги, чтобы установить причинную значимость инструкции, в Austerity таких усилий не предпринимает; эти идеи даны как инструкции, и они работают как инструкции, потому что они существуют.
В целом, работа Блайта указывает на критическую проблему, с которой столкнулись ученые, пытаясь выдвинуть ориентированные на идеи аргументы в пользу политических и экономических изменений, и это объясняет выбор. Редко что-либо исторически значимое происходит без горячих споров, и поворот к неолиберализму не является исключением. Маргарет Тэтчер, возможно, успешно экспортировала свою содержательную, пренебрежительную «Нет альтернативы», но ее многочисленные противники просили отличаться. Стороны сформированы, предложены меры и даны рационализации. Но кто победит? В собственных отчетах Блайта об основных изменениях политики выделяются критические моменты во времена кризиса, когда элиты государства боролись с конкурирующими идеями, но ни Великие трансформации, ни жесткая экономия не могут действительно объяснить, почему одни идеи формировали политику, а другие находили свой путь в мусорное ведро истории.
Идея-центричная политическая экономия предложила два ответа на этот вызов. Первый заключается в том, чтобы утверждать, что некоторые идеи выигрывают, потому что они, скорее, лучшие идеи. Второй заключается в том, чтобы утверждать, что некоторые идеи выигрывают, потому что они отражают преобладающую мудрость экономических экспертов, которые имеют все больше возможностей для реализации своих идей. Каждый из них выглядит правдоподобно, но в конечном итоге оказывается недостаточным для объяснения сил, стоящих за ростом и устойчивостью неолиберализма.
Недавняя блайтовская "Строгость: история опасной идеи" омрачена той же аналитической неравномерностью. Книга является самой сильной в своих первых главах, где Блит разбирает два основных мифа о жесткой экономии. Во-первых, несмотря на то, что политика жесткой экономии сформулирована на языке «общей жертвы», в действительности это классовая политика, приносящая пользу финансовой элите перед бедным и рабочим классом. Во-вторых, жесткая экономия основывается на ложном диагнозе причин экономического кризиса, а именно на том, что правительство «перерасходует». Неудивительно, что, несмотря на то, что экономия способствует дальнейшему обогащению финансистов, она не восстанавливает экономический рост. Повсюду Блит гораздо более откровенен в отношении политической природы этой экономической политики, чем в «Великих трансформациях». Он удостоверяется, что мы понимаем, что экономия - это экономическое перераспределение под видом экономической стабилизации. Как и в случае с Великими Трансформациями, есть места, где его аргумент указывает на основную политическую или институциональную силу, стоящую за поворотом к жесткой экономии. Блит отмечает, что принципы «надежного финансирования» наиболее четко сформулированы банковским сообществом в США и министерством финансов в Великобритании. Германия, отмечает он, является домом ордолиберализма, потому что в структурном отношении она имеет вид экономики, в которой работает ордолиберализм (прим ред. Смысл ордолиберального учения сводится к тому, что "государство в сущности ограничивается формированием экономического строя, тогда как само по себе регулирование и ход хозяйственного процесса происходят спонтанно").
Принимая во внимание это четкое признание того, что жесткая экономия - это такой же политический проект, как и интеллектуальный, можно разумно ожидать, что Блайт создаст историю подъема и устойчивости экономики перед лицом неудачи, которая объединяет идеи жесткой экономии и структурные и исторические факторы, которые дали сторонникам жесткой экономии силу в реализации этих идей. В конце концов, однако, книга изнурена настойчивостью, что история жесткой экономии может быть рассказана как история идей. В последующих главах прослеживается интеллектуальное происхождение строгой экономии от классической политической экономии (Локка, Юма и Смита), затем к Новолиберальным, австрийским и американским «ликвидаторским» школам начала двадцатого века, а затем завоевание позиции немецкого ордолиберализма после Второй мировой войны и укрепление ее интеллектуальной базы с ростом монетаризма и теории общественного выбора в 1970-х годах. Повсюду Блит использует метафору «инструкции», использованную в «Великой» для придания этим идеям причинного значения. Однако, в отличие от «Великих трансформаций», где Блит предпринял некоторые шаги, чтобы установить причинную значимость инструкции, в Austerity таких усилий не предпринимает; эти идеи даны как инструкции, и они работают как инструкции, потому что они существуют.
В целом, работа Блайта указывает на критическую проблему, с которой столкнулись ученые, пытаясь выдвинуть ориентированные на идеи аргументы в пользу политических и экономических изменений, и это объясняет выбор. Редко что-либо исторически значимое происходит без горячих споров, и поворот к неолиберализму не является исключением. Маргарет Тэтчер, возможно, успешно экспортировала свою содержательную, пренебрежительную «Нет альтернативы», но ее многочисленные противники просили отличаться. Стороны сформированы, предложены меры и даны рационализации. Но кто победит? В собственных отчетах Блайта об основных изменениях политики выделяются критические моменты во времена кризиса, когда элиты государства боролись с конкурирующими идеями, но ни Великие трансформации, ни жесткая экономия не могут действительно объяснить, почему одни идеи формировали политику, а другие находили свой путь в мусорное ведро истории.
Идея-центричная политическая экономия предложила два ответа на этот вызов. Первый заключается в том, чтобы утверждать, что некоторые идеи выигрывают, потому что они, скорее, лучшие идеи. Второй заключается в том, чтобы утверждать, что некоторые идеи выигрывают, потому что они отражают преобладающую мудрость экономических экспертов, которые имеют все больше возможностей для реализации своих идей. Каждый из них выглядит правдоподобно, но в конечном итоге оказывается недостаточным для объяснения сил, стоящих за ростом и устойчивостью неолиберализма.
ПОЛИТИКА ИДЕИ
Некоторые идеи выигрывают, потому что некоторые идеи лучше подходят для победы. В этом суть идеологического ответа Фреда Блока и Маргарет Сомерс на вопрос, почему одни идеи становятся выдающимися, а другие - ослабевают во время кризиса. Как они утверждают в своем даментализме, некоторые идеи пронизаны «эпистемической привилегией»: их содержание, их логическая структура, их связь с другими широко распространенными убеждениями и ценностями дает им преимущество в битве идей. «Эпистемическая привилегия» не обязательно основана на подтверждающих, научных данных или причинах. Скорее, эпистемическая привилегия проистекает из, как они выражаются, способности идеи «реализовать себя», делая ее весьма устойчивой к эмпирическим вызовам. Хотя Блок и Сомерс не полностью раскрывают, что это значит, они предполагают, что это квази-религиозная характеристика. Рыночный фундаментализм содержит как этот квазирелигиозный элемент, так и вид научной строгости, что дает ему конкурентное преимущество в битвах «Что делать?» и «Как?», которые бушуют в моменты экономического кризиса. Кроме того, рыночный фундаментализм базируется на другой мощной идее, так называемом «тезисе извращенности». Эта идея, которая отбрасывается сотни лет каждый раз, когда кто-то хочет подорвать общественные усилия по поддержке бедных, утверждает, что пытаться смягчить негативные последствие рыночных сил порочно ухудшает положение наиболее уязвимых членов общества. Другими словами, рыночный фундаментализм побеждает, потому что он и его двоюродный брат извращенный тезис идеально более могущественны, чем альтернативные идеи, которые не имеют такой же эпистемической привилегии.
Чтобы выдвинуть этот аргумент, они сравнивают две эпохи сокращения государства всеобщего благосостояния в США и Англии: во-первых, поправки к английскому закону о бедных от 1834 года, которые откатили обратно общественную помощь; во-вторых, принятие Закона о возможностях и ответственности за личную работу в США в 1993 году, который положил конец социальному обеспечению в рамках программы «Помощь семьям с детьми-иждивенцами» (AFDC). В обоих случаях, утверждают они, социальный и экономический кризис создал пространство для выдающихся интеллектуалов, чтобы сместить преобладающий идеальный режим в сторону рыночного фундаментализма, выдвигая версии «тезиса о порочности». В 1800-х годах в Англии это были Очерки Томаса Мальтуса о Принципах Населения, которое вдохнуло новую жизнь в тезис извращенности. Основной аргумент Мальтуса заключался в том, что общественная помощь нарушала естественные ограничения роста населения, что приводило к перенаселению, нехватке ресурсов и обнищанию бедных. Аргументы Мальтуса нашли свое отражение в отчете Королевской комиссии о помощи бедным, который подготовил почву для поправок к Закону о бедных от 1834 года. В США Чарльз Мюррей эффективно мобилизовал тезис о порочности в своей влиятельной «Уступка». Опубликованный в 1984 году, Мюррей, как и Мальтус, утверждал, что помощь бедным подрывает «естественные» ограничения роста населения и подрывает мотивацию людей быть ответственными, продуктивными членами общества. Вместо того чтобы помочь бедным избежать бедности, благосостояние усугубило бедность. Идеи Мюррея распространялись среди консервативных аналитических центров и таким образом. Блок и Сомерс утверждают, что они пересмотрели дебаты о реформе социального обеспечения в 1990-х годах.
Рыночный фундаментализм выдвигает амбициозную претензию, но не приводит аргумента достаточной силы, чтобы поддержать его. С одной стороны, хотя сравнение между США и Англией является описательно интересным, его аналитическая ценность не так велика, как предполагают Блок и Сомерс. По их мнению, сила их сравнения заключается в том, что аналогичный результат (сокращение масштабов помощи бедным населению) связан с популяризацией аналогичного набора рыночных фундаменталистских идей в двух совершенно разных случаях: в начале XIX века в Англии и США в конце двадцатого века. Вывод, который мы должны сделать из этого, заключается в том, что, поскольку все другие соответствующие факторы, такие как политическая и экономическая структура, были настолько разными, только объяснительный фактор может иметь только один из них (повествование о «извращенном тезисе»). В лучшем случае это сравнение полезно для демонстрации интересных параллелей между этими двумя случаями сокращения благосостояния, но оно недостаточно надежное, чтобы установить причинную силу одного конкретного фактора относительно других.
Как отмечают сами Блок и Сомерс, в ходе дебатов вокруг реформы социального обеспечения США, которые они рассматривают, тезис о порочности также последовательно использовался для нападок на многие другие формы государственной помощи, от продовольственных талонов до социального обеспечения. И тем не менее, эти программы оказались гораздо более гибкими (по крайней мере, в то время) для изменения, в то время как денежная помощь для бедных в рамках AFDC была полностью преобразована в систему TANF. Это было бы подходящим сравнением, на котором можно было бы привести веские аргументы в пользу того, когда и как идеи имеют силу, но они затушевывают ее значение. Более того, даже если мы признаем их основополагающее утверждение о том, что «эпистемическая привилегия» позволяет некоторым идеям одерживать верх над другими, нам нужно будет сравнить все другие аргументы за и против реформы социального обеспечения. Рыночный фундаментализм тратит много времени на разбор аргументов Мальтуса и Мюррея, но мы никогда не видим тезис о порочности, конкурирующий с альтернативными аргументами. Учитывая, что центральная гипотеза Блока и Сомерса состоит в том, что некоторые идеи более могущественны, чем другие, из-за их внутренних эпистемологических характеристик, поддержка этой гипотезы требует сравнения разных идей, а не одной и той же идеи в разные периоды времени и места. Как мы можем судить об эпистемических достоинствах конкурентов, если мы не являемся свидетелями боя? Конечно, что-то же спорное, как демонтаж социальной защиты для бедных вызвало широкие и разнообразные дискуссии. Чтобы поддержать свои сильные идейные аргументы, Блоку и Сомерсу нужно будет показать, что эти конкурирующие идеи были одинаково заметны в политическом дискурсе, но не имели внутренних характеристик, дающих «эпистемическую привилегию». Опять же, анализ, построенный вокруг такого рода сравнения дал бы Блоку и Сомерсу реальное преимущество по вопросу о том, когда и как идеи имеют причинно-следственную силу в процессе выработки политики.
Пытаясь провести прямую грань между работами конкретного интеллектуала и конкретными политическими результатами. Блок и Сомерс полностью избегают этого важного вопроса, никогда не ставя политические дебаты о реформе Английского закона о бедных и реформе Благосостояния США в более широком созвездии структурных экономических изменений и меняющихся интересов. В самом деле, несколько иронично, что, хотя рыночный фундаментализм воспринимается как дань Великой Трансформации Поланьи, первый не способен передать гораздо более глубокое понимание последним сложных отношений между экономической структурой, классовыми интересами и экономической идеологией. В то время как Блок и Сомерс утверждают, что рыночный фундаментализм, как идея, обладает присущей ему религиозной уверенностью, которая способствует его эпистемологической власти, Поланьи отмечает, что это был особый экономический класс, восходящие торговцы-промышленники, чья собственная позиция покоилась на расширении свободных рынков для торговли и труда, что провозглашало святую добродетель рынков. С этой точки зрения отличать силу идеи от силы групп, определяющих ее значение, глупо. Поланьи действительно уделяет особое внимание натуралистическим элементам рыночного дискурса, но его обсуждение этого вопроса связано с его анализом зарождения современной экономической теории (развитие, которое происходит после реформ Закона о бедных), а не о реформах самого Закона о бедных. Для этого Поланьи гораздо больше заинтересован в том, чтобы привлечь наше внимание к морализирующим дискурсам, противопоставляющим добродетельный труд ленивому пауперизму, которые были популярны среди растущего английского среднего класса. Идеи играли ключевую роль в этой борьбе, но в своем стремлении утвердить автономную силу идей как идеи Блок и Сомерс преувеличивают решающее влияние одного набора идей, которые были частью более широкого дискурса, и неправдоподобно предполагают, что такие идеи, как рыночный Фундаментализм или тезис о порочности пронизывают политико-экономическую динамику явной силой их идейного содержания.
Фундаментальный недостаток этого подхода раскрывается через тщательную переоценку одной из любимых сюжетных линий во многих идейно-ориентированных отчетах о росте неолиберализма: «открытие» в 1980-х годах европейской неолиберальной теории, связанное с Фридрихом Хайеком и его коллегами в Монте. Общество Пелерина (MPS). В то время как неолиберальная политическая и экономическая теория разнообразна и организована в различные школы мысли, два ключевых элемента последовательно выделяются как обеспечивающие интеллектуальную основу для поворота глобальной неолиберальной политики.
Чтобы выдвинуть этот аргумент, они сравнивают две эпохи сокращения государства всеобщего благосостояния в США и Англии: во-первых, поправки к английскому закону о бедных от 1834 года, которые откатили обратно общественную помощь; во-вторых, принятие Закона о возможностях и ответственности за личную работу в США в 1993 году, который положил конец социальному обеспечению в рамках программы «Помощь семьям с детьми-иждивенцами» (AFDC). В обоих случаях, утверждают они, социальный и экономический кризис создал пространство для выдающихся интеллектуалов, чтобы сместить преобладающий идеальный режим в сторону рыночного фундаментализма, выдвигая версии «тезиса о порочности». В 1800-х годах в Англии это были Очерки Томаса Мальтуса о Принципах Населения, которое вдохнуло новую жизнь в тезис извращенности. Основной аргумент Мальтуса заключался в том, что общественная помощь нарушала естественные ограничения роста населения, что приводило к перенаселению, нехватке ресурсов и обнищанию бедных. Аргументы Мальтуса нашли свое отражение в отчете Королевской комиссии о помощи бедным, который подготовил почву для поправок к Закону о бедных от 1834 года. В США Чарльз Мюррей эффективно мобилизовал тезис о порочности в своей влиятельной «Уступка». Опубликованный в 1984 году, Мюррей, как и Мальтус, утверждал, что помощь бедным подрывает «естественные» ограничения роста населения и подрывает мотивацию людей быть ответственными, продуктивными членами общества. Вместо того чтобы помочь бедным избежать бедности, благосостояние усугубило бедность. Идеи Мюррея распространялись среди консервативных аналитических центров и таким образом. Блок и Сомерс утверждают, что они пересмотрели дебаты о реформе социального обеспечения в 1990-х годах.
Рыночный фундаментализм выдвигает амбициозную претензию, но не приводит аргумента достаточной силы, чтобы поддержать его. С одной стороны, хотя сравнение между США и Англией является описательно интересным, его аналитическая ценность не так велика, как предполагают Блок и Сомерс. По их мнению, сила их сравнения заключается в том, что аналогичный результат (сокращение масштабов помощи бедным населению) связан с популяризацией аналогичного набора рыночных фундаменталистских идей в двух совершенно разных случаях: в начале XIX века в Англии и США в конце двадцатого века. Вывод, который мы должны сделать из этого, заключается в том, что, поскольку все другие соответствующие факторы, такие как политическая и экономическая структура, были настолько разными, только объяснительный фактор может иметь только один из них (повествование о «извращенном тезисе»). В лучшем случае это сравнение полезно для демонстрации интересных параллелей между этими двумя случаями сокращения благосостояния, но оно недостаточно надежное, чтобы установить причинную силу одного конкретного фактора относительно других.
Как отмечают сами Блок и Сомерс, в ходе дебатов вокруг реформы социального обеспечения США, которые они рассматривают, тезис о порочности также последовательно использовался для нападок на многие другие формы государственной помощи, от продовольственных талонов до социального обеспечения. И тем не менее, эти программы оказались гораздо более гибкими (по крайней мере, в то время) для изменения, в то время как денежная помощь для бедных в рамках AFDC была полностью преобразована в систему TANF. Это было бы подходящим сравнением, на котором можно было бы привести веские аргументы в пользу того, когда и как идеи имеют силу, но они затушевывают ее значение. Более того, даже если мы признаем их основополагающее утверждение о том, что «эпистемическая привилегия» позволяет некоторым идеям одерживать верх над другими, нам нужно будет сравнить все другие аргументы за и против реформы социального обеспечения. Рыночный фундаментализм тратит много времени на разбор аргументов Мальтуса и Мюррея, но мы никогда не видим тезис о порочности, конкурирующий с альтернативными аргументами. Учитывая, что центральная гипотеза Блока и Сомерса состоит в том, что некоторые идеи более могущественны, чем другие, из-за их внутренних эпистемологических характеристик, поддержка этой гипотезы требует сравнения разных идей, а не одной и той же идеи в разные периоды времени и места. Как мы можем судить об эпистемических достоинствах конкурентов, если мы не являемся свидетелями боя? Конечно, что-то же спорное, как демонтаж социальной защиты для бедных вызвало широкие и разнообразные дискуссии. Чтобы поддержать свои сильные идейные аргументы, Блоку и Сомерсу нужно будет показать, что эти конкурирующие идеи были одинаково заметны в политическом дискурсе, но не имели внутренних характеристик, дающих «эпистемическую привилегию». Опять же, анализ, построенный вокруг такого рода сравнения дал бы Блоку и Сомерсу реальное преимущество по вопросу о том, когда и как идеи имеют причинно-следственную силу в процессе выработки политики.
Пытаясь провести прямую грань между работами конкретного интеллектуала и конкретными политическими результатами. Блок и Сомерс полностью избегают этого важного вопроса, никогда не ставя политические дебаты о реформе Английского закона о бедных и реформе Благосостояния США в более широком созвездии структурных экономических изменений и меняющихся интересов. В самом деле, несколько иронично, что, хотя рыночный фундаментализм воспринимается как дань Великой Трансформации Поланьи, первый не способен передать гораздо более глубокое понимание последним сложных отношений между экономической структурой, классовыми интересами и экономической идеологией. В то время как Блок и Сомерс утверждают, что рыночный фундаментализм, как идея, обладает присущей ему религиозной уверенностью, которая способствует его эпистемологической власти, Поланьи отмечает, что это был особый экономический класс, восходящие торговцы-промышленники, чья собственная позиция покоилась на расширении свободных рынков для торговли и труда, что провозглашало святую добродетель рынков. С этой точки зрения отличать силу идеи от силы групп, определяющих ее значение, глупо. Поланьи действительно уделяет особое внимание натуралистическим элементам рыночного дискурса, но его обсуждение этого вопроса связано с его анализом зарождения современной экономической теории (развитие, которое происходит после реформ Закона о бедных), а не о реформах самого Закона о бедных. Для этого Поланьи гораздо больше заинтересован в том, чтобы привлечь наше внимание к морализирующим дискурсам, противопоставляющим добродетельный труд ленивому пауперизму, которые были популярны среди растущего английского среднего класса. Идеи играли ключевую роль в этой борьбе, но в своем стремлении утвердить автономную силу идей как идеи Блок и Сомерс преувеличивают решающее влияние одного набора идей, которые были частью более широкого дискурса, и неправдоподобно предполагают, что такие идеи, как рыночный Фундаментализм или тезис о порочности пронизывают политико-экономическую динамику явной силой их идейного содержания.
Фундаментальный недостаток этого подхода раскрывается через тщательную переоценку одной из любимых сюжетных линий во многих идейно-ориентированных отчетах о росте неолиберализма: «открытие» в 1980-х годах европейской неолиберальной теории, связанное с Фридрихом Хайеком и его коллегами в Монте. Общество Пелерина (MPS). В то время как неолиберальная политическая и экономическая теория разнообразна и организована в различные школы мысли, два ключевых элемента последовательно выделяются как обеспечивающие интеллектуальную основу для поворота глобальной неолиберальной политики.
“
Во-первых, конкурентные рынки, а не государство, являются наиболее эффективным организатором экономической деятельности; во-вторых, для надлежащего функционирования рынки должны быть защищены от давления со стороны населения.
Как Блайт описывает в Austerity, эти идеи закрепились в Европе (наиболее успешно в Германии) и, в меньшей степени, в США в послевоенный период, но не стали глобально доминирующими идеологиями, пока не получили дополнительную интеллектуальную поддержку от более недавних разработок в экономической теории: монетаризм и теория общественного выбора. Они оба усилили недоверие раннего неолиберализма к государству и массам и укрепили интеллектуальный профиль неолиберализма до такой степени, что эти принципы стали здравым смыслом среди политиков.
Рассказ Блайта не уникален тем, что он описывает идеологические основы современного неолиберализма как продукта интеллектуалов и экономических теоретиков, медленно и неуклонно скребущихся по кейнсианскому зданию, пока кризис глобального капитализма 1970-х годов не дал им возможность разрушить это полностью. И все же, как показывают некоторые из авторов отредактированного тома «Дорога от Мон-Пелерина», эта история роста неолиберализма сильно вводит в заблуждение. Хайек и его группа неолибералов не были «открыты» во время кризиса избранными должностными лицами, отчаянно нуждающимися в свежих идеях, и их идеи не культивировались и не развивались в утонченной атмосфере научных тем и интеллектуальных дебатов.
Скорее европейский неолиберализм MPS был завербован, культивирован и сформирован деловыми интересами США в разгар так называемого «кейнсианского консенсуса» и послевоенного экономического процветания 1940-х и 1950-х годов. Как Роб Ван Хорн и Филипп Мировский показывают в своем эссе о росте Чикагской школы экономики, Хайек стремился донести свои анти-тоталитарные, анти-Новый курс послания в Соединенные Штаты и в значительной степени опирался на финансовую поддержку американского бизнесмена Гарольда Лахнова, чтобы сделать это. Лахнов, президент мебельной дистрибьюторской компании William Volker and Co., был «резким анти-новичком-консерватором», стремившимся распространить идею свободы рынка. Лахнов использовал благотворительный фонд своей компании, чтобы организовать американское турне для Хайека и его проекта «Свободный рынок» в 1946 году, и помог организовать этот проект в Чикагском университете. Но, как показывают Ван Хорн и Мировски, Лахнов не был просто молчаливым покровителем. Он использовал свое положение финансового покровителя, чтобы отстаивать свою политическую и экономическую философию в проекте. Классический либерализм, основанный на мысли Хайека, с подозрением относился ко всем концентрациям власти - как к крупным государствам, так и к крупным корпорациям. Американские бизнесмены, с другой стороны, стремились обуздать первое с явной целью обеспечения полной свободы для второго.
Как показывает Ким Филлипс-Фейн в своем вкладе, культивирование Лахновым связей с интеллектуалами в интересах бизнеса США не было уникальным. Консерваторы бизнеса также финансировали аналитические центры против Нового курса, такие как Фонд экономического образования (FEE) и Американскую ассоциацию предпринимательства (которую мы теперь знаем как Американский институт предпринимательства). Джаспер Крейн, бывший исполнительный директор DuPont Chemical и член совета директоров FEE, как и Лахнов, стремился донести послание Хайека до американской аудитории и собрал значительные средства среди своих деловых контактов, чтобы организовать американское собрание Общества Мон Пелерина в 1956 году. Крэйн и другие спонсоры не были заинтересованы в импорте всего полотна послания Мон Пелерина, а, скорее всего, так же, как это сделал Лахнов, использовали свой кошелек для формирования программы, отвечающей интересам американского бизнеса.
Вклад Ива Штайнера дает пример того, как интересы американского бизнеса повлияли на дебаты в рамках mps по одной важной проблеме: роли профсоюзов. Среди многих европейских членов mps профсоюзы не были пугалом, какими их считали американские бизнесмены. Во многих европейских странах профсоюзы были вовлечены в корпоративные политические договоренности, и, с точки зрения многих европейских членов mps, их можно эффективно использовать. Американцы были гораздо более враждебны к профсоюзам, особенно к тем американским предприятиям, которые оказались на «другой стороне» компромиссов Нового курса. Эти антипрофсоюзные фирмы снова использовали свою власть в качестве финансовых покровителей для продвижения антипрофсоюзного дискурса в повестку дня mps в конце 1950-х годов.
Выводы Штайнера указывают на основополагающий недостаток рассуждений Блайта в «Austerity" и в "Рыночном фундаментализме" Блока и Сомерса. Отмечать параллель между аргументом и политикой - это не то же самое, что обнаруживать причинность. Как отмечает Штайнер, можно легко найти антипрофсоюзные взгляды в основополагающих текстах неолиберализма в стиле Мон-Пелерина, но было бы ошибкой прослеживать линию, связывающую антипрофсоюзную направленность консерватизма США 1970-х и 1980-х годов с этими идеями. На самом деле, слияние неолиберализма с антиунионизмом в США является артефактом американских бизнесменов, стремящихся навязать свои собственные взгляды политической и экономической философии.
Эти вклады в «Путь из Мон-Пелерина» перевернули с ног на голову идею европейского неолиберализма о влиянии неолиберализма на современную экономическую политику США. Такие деятели, как Хайек и другие, разрабатывающие политическую теорию неолиберализма, дали американским бизнесменам интеллектуальный язык, на котором они могли бы объединить свои экономические интересы и организационную платформу, с помощью которой они могли бы продвинуть их в круги выработки политики элитного уровня, так же как Мальтус дал риторические боеприпасы восходящим торговцам-промышленникам в Англии девятнадцатого века, а Мюррей дал интеллектуальный вес элитарным и расистским атакам на государство всеобщего благосостояния, типичное для американских политических консерваторов. Это не значит, что «Дорога к крепостному праву» Хайека или другие отличительные признаки европейской неолиберальной мысли сами по себе не были чрезвычайно важны. Но если мы хотим понять возникновение современного неолиберализма на практике, который для всей политики и практики, которые подпадают под этот заголовок, в основном связан с перераспределением власти между политическими и экономическими элитами и от массы, вопрос не в том,были ли эти идеи важны, но, скорее, можно ли понять влияние этих идей на реконфигурацию власти в глобальном капитализме вне политического и экономического контекста, который формирует их содержание и влияние.
Рассказ Блайта не уникален тем, что он описывает идеологические основы современного неолиберализма как продукта интеллектуалов и экономических теоретиков, медленно и неуклонно скребущихся по кейнсианскому зданию, пока кризис глобального капитализма 1970-х годов не дал им возможность разрушить это полностью. И все же, как показывают некоторые из авторов отредактированного тома «Дорога от Мон-Пелерина», эта история роста неолиберализма сильно вводит в заблуждение. Хайек и его группа неолибералов не были «открыты» во время кризиса избранными должностными лицами, отчаянно нуждающимися в свежих идеях, и их идеи не культивировались и не развивались в утонченной атмосфере научных тем и интеллектуальных дебатов.
Скорее европейский неолиберализм MPS был завербован, культивирован и сформирован деловыми интересами США в разгар так называемого «кейнсианского консенсуса» и послевоенного экономического процветания 1940-х и 1950-х годов. Как Роб Ван Хорн и Филипп Мировский показывают в своем эссе о росте Чикагской школы экономики, Хайек стремился донести свои анти-тоталитарные, анти-Новый курс послания в Соединенные Штаты и в значительной степени опирался на финансовую поддержку американского бизнесмена Гарольда Лахнова, чтобы сделать это. Лахнов, президент мебельной дистрибьюторской компании William Volker and Co., был «резким анти-новичком-консерватором», стремившимся распространить идею свободы рынка. Лахнов использовал благотворительный фонд своей компании, чтобы организовать американское турне для Хайека и его проекта «Свободный рынок» в 1946 году, и помог организовать этот проект в Чикагском университете. Но, как показывают Ван Хорн и Мировски, Лахнов не был просто молчаливым покровителем. Он использовал свое положение финансового покровителя, чтобы отстаивать свою политическую и экономическую философию в проекте. Классический либерализм, основанный на мысли Хайека, с подозрением относился ко всем концентрациям власти - как к крупным государствам, так и к крупным корпорациям. Американские бизнесмены, с другой стороны, стремились обуздать первое с явной целью обеспечения полной свободы для второго.
Как показывает Ким Филлипс-Фейн в своем вкладе, культивирование Лахновым связей с интеллектуалами в интересах бизнеса США не было уникальным. Консерваторы бизнеса также финансировали аналитические центры против Нового курса, такие как Фонд экономического образования (FEE) и Американскую ассоциацию предпринимательства (которую мы теперь знаем как Американский институт предпринимательства). Джаспер Крейн, бывший исполнительный директор DuPont Chemical и член совета директоров FEE, как и Лахнов, стремился донести послание Хайека до американской аудитории и собрал значительные средства среди своих деловых контактов, чтобы организовать американское собрание Общества Мон Пелерина в 1956 году. Крэйн и другие спонсоры не были заинтересованы в импорте всего полотна послания Мон Пелерина, а, скорее всего, так же, как это сделал Лахнов, использовали свой кошелек для формирования программы, отвечающей интересам американского бизнеса.
Вклад Ива Штайнера дает пример того, как интересы американского бизнеса повлияли на дебаты в рамках mps по одной важной проблеме: роли профсоюзов. Среди многих европейских членов mps профсоюзы не были пугалом, какими их считали американские бизнесмены. Во многих европейских странах профсоюзы были вовлечены в корпоративные политические договоренности, и, с точки зрения многих европейских членов mps, их можно эффективно использовать. Американцы были гораздо более враждебны к профсоюзам, особенно к тем американским предприятиям, которые оказались на «другой стороне» компромиссов Нового курса. Эти антипрофсоюзные фирмы снова использовали свою власть в качестве финансовых покровителей для продвижения антипрофсоюзного дискурса в повестку дня mps в конце 1950-х годов.
Выводы Штайнера указывают на основополагающий недостаток рассуждений Блайта в «Austerity" и в "Рыночном фундаментализме" Блока и Сомерса. Отмечать параллель между аргументом и политикой - это не то же самое, что обнаруживать причинность. Как отмечает Штайнер, можно легко найти антипрофсоюзные взгляды в основополагающих текстах неолиберализма в стиле Мон-Пелерина, но было бы ошибкой прослеживать линию, связывающую антипрофсоюзную направленность консерватизма США 1970-х и 1980-х годов с этими идеями. На самом деле, слияние неолиберализма с антиунионизмом в США является артефактом американских бизнесменов, стремящихся навязать свои собственные взгляды политической и экономической философии.
Эти вклады в «Путь из Мон-Пелерина» перевернули с ног на голову идею европейского неолиберализма о влиянии неолиберализма на современную экономическую политику США. Такие деятели, как Хайек и другие, разрабатывающие политическую теорию неолиберализма, дали американским бизнесменам интеллектуальный язык, на котором они могли бы объединить свои экономические интересы и организационную платформу, с помощью которой они могли бы продвинуть их в круги выработки политики элитного уровня, так же как Мальтус дал риторические боеприпасы восходящим торговцам-промышленникам в Англии девятнадцатого века, а Мюррей дал интеллектуальный вес элитарным и расистским атакам на государство всеобщего благосостояния, типичное для американских политических консерваторов. Это не значит, что «Дорога к крепостному праву» Хайека или другие отличительные признаки европейской неолиберальной мысли сами по себе не были чрезвычайно важны. Но если мы хотим понять возникновение современного неолиберализма на практике, который для всей политики и практики, которые подпадают под этот заголовок, в основном связан с перераспределением власти между политическими и экономическими элитами и от массы, вопрос не в том,были ли эти идеи важны, но, скорее, можно ли понять влияние этих идей на реконфигурацию власти в глобальном капитализме вне политического и экономического контекста, который формирует их содержание и влияние.
ВЛАСТЬ ЭКСПЕРТАМ
Если идея-центричная политическая экономия провела большую часть параллелей между свободным рынком и ранней неолиберальной политической философией и неолиберальным поворотом в экономической политике, то этим она оказала даже большее предполагаемое влияние, которое профессиональные экономисты и другие экономические эксперты оказали на определение неолиберальной экономической повестки дня. Это было мотивировано тремя соображениями. Во-первых, экономика как профессиональная сфера в настоящее время глубоко основана на сложном количественном моделировании. Это означает, что экономический анализ непрозрачен для всех, кроме профессионально подготовленных. Во-вторых, многие институты, которые играют ключевую роль в формировании экономической политики, изолированы от внешнего политического давления и в значительной степени укомплектованы экономистами, прошедшими подготовку в лучших программах докторантуры. В-третьих, повторяющийся экономический кризис и растущая видимость финансовых рынков в публичном дискурсе придают дополнительный вес идеям опытных экономистов.
Таким образом, многие описания неолиберального поворота ставят экспертов-экономисов и идеи, которые они распространяют, в центр их анализа. Например, в Austerity Блит уделяет большое внимание научной работе, которая выходит из экономического факультета в Университете Боккони в Италии, который, как утверждает Блит, заложил интеллектуальные основы для европейских мер жесткой экономии после финансового кризиса 2008 года. С помощью ряда исследовательских работ, опубликованных в 1980-х и 1990-х годах, эти экономисты предоставили доказательства того, что корнем долговых проблем Европы является электоральная конкуренция (то есть, слишком большая демократия) и что резкое сокращение государственных расходов может, в отличие от кейнсианской мудрости, привести к общая экономическая экспансия.
Но как и когда эти экспертные идеи получают такое влияние в политической и политической сферах? Блит никогда не отвечает на этот вопрос, предпочитая просто утверждать про их власть и влияние в силу их сходства с реальной неолиберальной экономической политикой. Совсем недавно созданная Стефани Мадж «Переосмысленное левацтво» поднимает этот вопрос в своем анализе подъема «третьего пути», левоцентристских политических партий (например, «Демократы при Билле Клинтоне» или «Лейбористы при Тони Блэре») и их связи с неолиберальным поворотом в разработке экономической политики. Эти партии явно порвали со «старыми» левыми и привели технократический неолиберализм свободного рынка в одно объятие с социальным прогрессивизмом. Мадж утверждает, что появление «третьего пути» объясняется изменяющимися отношениями между партиями и партийными экспертами - журналистами, интеллектуалами, консультантами, «wonks» и другими, которые стали "формировать то, как партии говорят, создают средства представления партий, решают вопрос о том, кто (или что) должен быть представлен, и формулируют конкурирующую логику правительства».
В своей социал-демократической форме девятнадцатого века партийный эксперт был активистом или журналистом, который поднялся в рядах своей партии благодаря своей культурной и образовательной работе. Кризис Великой Депрессии вызвал новый вид подготовленного в университете экономического эксперта, который мог бы предложить левым партиям научно обоснованную, прогрессивную экономическую программу, которую их теоретики-партийники не могли предоставить. В результате левоцентристские партии и профессиональные экономисты стали взаимозависимыми; на политические решения все больше влияло новое поколение кейнсианской экономической экспертизы, и кейнсианская экономическая теория стала глубоко политизированной. Эта конфигурация сломалась под непреклонным давлением стагфляции в 1970-х годах. Кейнсианская экономическая мысль была дискредитирована как потому, что она не могла решить загадку стагфляции, так и потому, что она изображалась как политическая идеология, скрывающаяся в одежде экономистов. Это не разорвало связь между левоцентристскими партиями и экономической экспертизой, а скорее открыло дверь для нового поколения экономистов, которые очень критично относились к кейнсианской экономической теории, чтобы предложить левоцентристским сторонникам набор политических рецептов.
Хотя она часто жестом указывает на материальные силы, кружащие вокруг ее дел, Мадж держит свои аналитические ноги прямо в культурном царстве. Она описывает партии в основном как «представительные органы», которые стремятся спроецировать свой имидж на своих избирателей. Это позволяет ей сузить свое внимание к «культурной инфраструктуре» партий, основным компонентом которой являются партийные эксперты. Сосредоточенный идеями аргумент Блайта в «Великих трансформациях» часто подрывается важностью материальных и классовых сил, которые он часто раскрывает. Мадж пытается избежать этой ловушки, стараясь структурировать свою теоретическую основу и методологию исследования, чтобы обойти некультурные политические и исторические факторы, позволяя экспертам и их идеям занимать центральное место в повествовании. Первые аналитические главы посвящены рождению европейской социал-демократии в конце девятнадцатого века, и, учитывая контекст, Мадж должна разобраться со сложными отношениями между партийными экспертами, политическими партиями и рабочими движениями, которые были центральными в политике этот период. Вместо того, чтобы проследить сложные отношения между журналистской и программной работой этих партий и рабочими движениями, на которые они одновременно реагировали и стремились использовать, Мадж вместо этого настаивает на различии между «культурным оружием» партий, которое воспитывало партийных экспертов посредством написания газет, политической агитации и просветительской работы, а также «экономического оружия» партий, профсоюзов, от которых они искали поддержки.
Это сложный аналитический маневр, и для приспособления социальной позиции первых партийных экспертов по социал-демократии к этой форме требуется некоторое искривление. Например, Мадж прилагает значительные усилия, глядя на жизнь и политическую карьеру Фредерика Торсона, первого министра финансов Шведской социал-демократической партии. В то время как Мадж признает, что Торсон начал свою политическую карьеру, работая с профсоюзами, она описывает эту работу строго в культурном отношении, утверждая, что Торсон действительно был «агитатором», а не «профсоюзным деятелем», и поэтому его втянули в партию через культурное подразделение, а не экономическое. Такое разделение социал-демократических партийных экспертов от их базы поддержки в профсоюзах является натяжкой, но оно также упускает из виду: даже если эти так называемые партийные эксперты не имели личной связи с движениями рабочего класса, трудно представьте, что они становятся выдающимися в социал-демократических партиях, не занимаясь интеллектуальной и политической работой, которая напрямую связана с рабочими движениями, которые были основой политической власти этих партий. Сила и тон рабочих движений XIX века определили политическую и идеологическую повестку дня социал-демократии.
Недооценив значимость движений рабочего класса в своем анализе социал-демократии XIX века, Мадж отделяет экономическую руку от своего анализа кейнсианских и «третьего пути» преобразований левоцентристов и полностью смещает свой акцент на вознесение экономических экспертов в левоцентристских партиях. Это позволяет ей описывать эти переменчивые отношения в богатых исторических и биографических деталях, но все эти детали только делают отсутствие материальных факторов - будь то классовые социальные движения или структурную, экономическую динамику - все более заметными. Во-первых, даже несмотря на то, что политическая сила рабочих движений во многих отношениях уменьшилась по сравнению с их социал-демократическим расцветом, включение труда в левоцентристский центр остается ключевым для понимания эволюции партий. Кроме того, даже работая над тем, чтобы сосредоточить внимание на культурной работе партий в связи с динамикой в области экономики, Мадж предлагает подсказки, указывающие на критическую роль, которую играют материальные факторы. Например, она отмечает, что финансовая либерализация в Швеции оказывает поддержку взглядам экономистов, ориентированных на финансы, и обсуждает, как процесс европейской интеграции, который включал интеграцию центральных банков Европы, укрепил репутацию тех, кто сформулировал благоприятную для банкиров денежно-кредитную идейную политику.
В обоих случаях, на что указывает Мадж, но никогда не исследует полностью, это способ, которым структурные материальные условия и институционализированная политическая власть могут привести политические элиты к стратегическому выбору среди различных наборов экспертных идей. Это процесс, который хорошо описан в современной Мексике, рассказ Сары Бабб о роли экономистов в неолиберальном переходе Мексики. Бабб документирует процесс, посредством которого профессиональные нормы смещаются среди экономических экспертов. В случае с Мексикой в этой профессии сначала доминировали постреволюционные экономисты, которые появились в 1920-х годах с четким проектом содействия экономическому развитию под руководством государства с их опытом. В 1960-х и 1970-х годах поле, поляризовавшееся в пользу левых специалистов по развитию, обучающихся в государственном университете, столкнулось с трудностями при финансировании корпорацией американизированных неолиберальных экономистов, обучавшихся в частном университете и получивших стипендии через мексиканский Центральный банк. Именно эта последняя группа экономистов, по словам Бабба, предоставила критический анализ и политические рекомендации государственным элитам, которые боролись с долговым кризисом 1980-х годов. Именно их идеи привели Мексику к ее неолиберальному повороту.
В ходе своего анализа Бабб контекстуализирует рост неолиберальных мексиканских экономистов в рамках структурных сдвигов в мировой экономике - либерализации торговли, ослабления контроля над капиталом и расширения прав и возможностей Всемирного банка и МВФ. Кроме того, она признает, что частью этого нового контекста было растущее значение международных организаций (МВФ и Всемирного банка) в связи с развязыванием глобальных рынков капитала и частными заимствованиями, которые это позволило мексиканскому правительству предпринять в начале 1980-х годов. Это подвергло мексиканское правительство двум давлениям: материальному давлению бегства капитала и прямому давлению со стороны правительства США и международных кредитных агентств с целью проведения рыночных реформ в обмен на списание долгов. Тем не менее, как только она начинает поворачиваться к материалистическому описанию неолиберализации в Мексике, Бабб пытается исправить курс обратно к идеоцентричным водам. Но именно способ, которым эти материальные нагрузки проявляются и формируют выбор и представление экономической экспертизы, становится одним из наиболее убедительных выводов из этой книги.
В начале 1980-х годов в Мексике существовали еще две активные школы экономической мысли, в которых старшие, левые, склонные к развитию, сталкивались с молодым поколением неолибералов. Бабб описывает, как под давлением МВФ и США мексиканское правительство намеренно выдвинуло неолиберальных экономистов на высшие руководящие должности, чтобы «вдохновить международное доверие и уверенность» в своей внутренней политике и тем самым обеспечить облегчение долгового бремени. Другими словами, пристально глядя на две конюшни экономических экспертов, мексиканские государственные чиновники преднамеренно повысили неолибералов западными полномочиями и идеями, благоприятствующими финансам, чтобы успокоить иностранных кредиторов. Как отмечает Бабб:
Таким образом, многие описания неолиберального поворота ставят экспертов-экономисов и идеи, которые они распространяют, в центр их анализа. Например, в Austerity Блит уделяет большое внимание научной работе, которая выходит из экономического факультета в Университете Боккони в Италии, который, как утверждает Блит, заложил интеллектуальные основы для европейских мер жесткой экономии после финансового кризиса 2008 года. С помощью ряда исследовательских работ, опубликованных в 1980-х и 1990-х годах, эти экономисты предоставили доказательства того, что корнем долговых проблем Европы является электоральная конкуренция (то есть, слишком большая демократия) и что резкое сокращение государственных расходов может, в отличие от кейнсианской мудрости, привести к общая экономическая экспансия.
Но как и когда эти экспертные идеи получают такое влияние в политической и политической сферах? Блит никогда не отвечает на этот вопрос, предпочитая просто утверждать про их власть и влияние в силу их сходства с реальной неолиберальной экономической политикой. Совсем недавно созданная Стефани Мадж «Переосмысленное левацтво» поднимает этот вопрос в своем анализе подъема «третьего пути», левоцентристских политических партий (например, «Демократы при Билле Клинтоне» или «Лейбористы при Тони Блэре») и их связи с неолиберальным поворотом в разработке экономической политики. Эти партии явно порвали со «старыми» левыми и привели технократический неолиберализм свободного рынка в одно объятие с социальным прогрессивизмом. Мадж утверждает, что появление «третьего пути» объясняется изменяющимися отношениями между партиями и партийными экспертами - журналистами, интеллектуалами, консультантами, «wonks» и другими, которые стали "формировать то, как партии говорят, создают средства представления партий, решают вопрос о том, кто (или что) должен быть представлен, и формулируют конкурирующую логику правительства».
В своей социал-демократической форме девятнадцатого века партийный эксперт был активистом или журналистом, который поднялся в рядах своей партии благодаря своей культурной и образовательной работе. Кризис Великой Депрессии вызвал новый вид подготовленного в университете экономического эксперта, который мог бы предложить левым партиям научно обоснованную, прогрессивную экономическую программу, которую их теоретики-партийники не могли предоставить. В результате левоцентристские партии и профессиональные экономисты стали взаимозависимыми; на политические решения все больше влияло новое поколение кейнсианской экономической экспертизы, и кейнсианская экономическая теория стала глубоко политизированной. Эта конфигурация сломалась под непреклонным давлением стагфляции в 1970-х годах. Кейнсианская экономическая мысль была дискредитирована как потому, что она не могла решить загадку стагфляции, так и потому, что она изображалась как политическая идеология, скрывающаяся в одежде экономистов. Это не разорвало связь между левоцентристскими партиями и экономической экспертизой, а скорее открыло дверь для нового поколения экономистов, которые очень критично относились к кейнсианской экономической теории, чтобы предложить левоцентристским сторонникам набор политических рецептов.
Хотя она часто жестом указывает на материальные силы, кружащие вокруг ее дел, Мадж держит свои аналитические ноги прямо в культурном царстве. Она описывает партии в основном как «представительные органы», которые стремятся спроецировать свой имидж на своих избирателей. Это позволяет ей сузить свое внимание к «культурной инфраструктуре» партий, основным компонентом которой являются партийные эксперты. Сосредоточенный идеями аргумент Блайта в «Великих трансформациях» часто подрывается важностью материальных и классовых сил, которые он часто раскрывает. Мадж пытается избежать этой ловушки, стараясь структурировать свою теоретическую основу и методологию исследования, чтобы обойти некультурные политические и исторические факторы, позволяя экспертам и их идеям занимать центральное место в повествовании. Первые аналитические главы посвящены рождению европейской социал-демократии в конце девятнадцатого века, и, учитывая контекст, Мадж должна разобраться со сложными отношениями между партийными экспертами, политическими партиями и рабочими движениями, которые были центральными в политике этот период. Вместо того, чтобы проследить сложные отношения между журналистской и программной работой этих партий и рабочими движениями, на которые они одновременно реагировали и стремились использовать, Мадж вместо этого настаивает на различии между «культурным оружием» партий, которое воспитывало партийных экспертов посредством написания газет, политической агитации и просветительской работы, а также «экономического оружия» партий, профсоюзов, от которых они искали поддержки.
Это сложный аналитический маневр, и для приспособления социальной позиции первых партийных экспертов по социал-демократии к этой форме требуется некоторое искривление. Например, Мадж прилагает значительные усилия, глядя на жизнь и политическую карьеру Фредерика Торсона, первого министра финансов Шведской социал-демократической партии. В то время как Мадж признает, что Торсон начал свою политическую карьеру, работая с профсоюзами, она описывает эту работу строго в культурном отношении, утверждая, что Торсон действительно был «агитатором», а не «профсоюзным деятелем», и поэтому его втянули в партию через культурное подразделение, а не экономическое. Такое разделение социал-демократических партийных экспертов от их базы поддержки в профсоюзах является натяжкой, но оно также упускает из виду: даже если эти так называемые партийные эксперты не имели личной связи с движениями рабочего класса, трудно представьте, что они становятся выдающимися в социал-демократических партиях, не занимаясь интеллектуальной и политической работой, которая напрямую связана с рабочими движениями, которые были основой политической власти этих партий. Сила и тон рабочих движений XIX века определили политическую и идеологическую повестку дня социал-демократии.
Недооценив значимость движений рабочего класса в своем анализе социал-демократии XIX века, Мадж отделяет экономическую руку от своего анализа кейнсианских и «третьего пути» преобразований левоцентристов и полностью смещает свой акцент на вознесение экономических экспертов в левоцентристских партиях. Это позволяет ей описывать эти переменчивые отношения в богатых исторических и биографических деталях, но все эти детали только делают отсутствие материальных факторов - будь то классовые социальные движения или структурную, экономическую динамику - все более заметными. Во-первых, даже несмотря на то, что политическая сила рабочих движений во многих отношениях уменьшилась по сравнению с их социал-демократическим расцветом, включение труда в левоцентристский центр остается ключевым для понимания эволюции партий. Кроме того, даже работая над тем, чтобы сосредоточить внимание на культурной работе партий в связи с динамикой в области экономики, Мадж предлагает подсказки, указывающие на критическую роль, которую играют материальные факторы. Например, она отмечает, что финансовая либерализация в Швеции оказывает поддержку взглядам экономистов, ориентированных на финансы, и обсуждает, как процесс европейской интеграции, который включал интеграцию центральных банков Европы, укрепил репутацию тех, кто сформулировал благоприятную для банкиров денежно-кредитную идейную политику.
В обоих случаях, на что указывает Мадж, но никогда не исследует полностью, это способ, которым структурные материальные условия и институционализированная политическая власть могут привести политические элиты к стратегическому выбору среди различных наборов экспертных идей. Это процесс, который хорошо описан в современной Мексике, рассказ Сары Бабб о роли экономистов в неолиберальном переходе Мексики. Бабб документирует процесс, посредством которого профессиональные нормы смещаются среди экономических экспертов. В случае с Мексикой в этой профессии сначала доминировали постреволюционные экономисты, которые появились в 1920-х годах с четким проектом содействия экономическому развитию под руководством государства с их опытом. В 1960-х и 1970-х годах поле, поляризовавшееся в пользу левых специалистов по развитию, обучающихся в государственном университете, столкнулось с трудностями при финансировании корпорацией американизированных неолиберальных экономистов, обучавшихся в частном университете и получивших стипендии через мексиканский Центральный банк. Именно эта последняя группа экономистов, по словам Бабба, предоставила критический анализ и политические рекомендации государственным элитам, которые боролись с долговым кризисом 1980-х годов. Именно их идеи привели Мексику к ее неолиберальному повороту.
В ходе своего анализа Бабб контекстуализирует рост неолиберальных мексиканских экономистов в рамках структурных сдвигов в мировой экономике - либерализации торговли, ослабления контроля над капиталом и расширения прав и возможностей Всемирного банка и МВФ. Кроме того, она признает, что частью этого нового контекста было растущее значение международных организаций (МВФ и Всемирного банка) в связи с развязыванием глобальных рынков капитала и частными заимствованиями, которые это позволило мексиканскому правительству предпринять в начале 1980-х годов. Это подвергло мексиканское правительство двум давлениям: материальному давлению бегства капитала и прямому давлению со стороны правительства США и международных кредитных агентств с целью проведения рыночных реформ в обмен на списание долгов. Тем не менее, как только она начинает поворачиваться к материалистическому описанию неолиберализации в Мексике, Бабб пытается исправить курс обратно к идеоцентричным водам. Но именно способ, которым эти материальные нагрузки проявляются и формируют выбор и представление экономической экспертизы, становится одним из наиболее убедительных выводов из этой книги.
В начале 1980-х годов в Мексике существовали еще две активные школы экономической мысли, в которых старшие, левые, склонные к развитию, сталкивались с молодым поколением неолибералов. Бабб описывает, как под давлением МВФ и США мексиканское правительство намеренно выдвинуло неолиберальных экономистов на высшие руководящие должности, чтобы «вдохновить международное доверие и уверенность» в своей внутренней политике и тем самым обеспечить облегчение долгового бремени. Другими словами, пристально глядя на две конюшни экономических экспертов, мексиканские государственные чиновники преднамеренно повысили неолибералов западными полномочиями и идеями, благоприятствующими финансам, чтобы успокоить иностранных кредиторов. Как отмечает Бабб:
“
«Чрезвычайная зависимость от ресурсов, вызванная долговым кризисом, привела к отбору среди подготовленных иностранцами экономистов в правительстве»
Управление Мексикой показывает, как конкретный набор экспертных идей был стратегически развернут в ответ на четко сформулированные требования ряда внешних, финансовых субъектов. Таким образом, пока она открывает книгу, преуменьшая важность материального принуждения, она тем не менее завершает свой анализ роста мексиканского неолиберализма, подчеркивая причинное первенство материального принуждения.
Структурная динамика, расширяющая возможности мировой финансовой элиты, является не только ключом к пониманию истоков неолиберализма, но и его стойкости в форме жесткой экономии после 2008 года, как показывает Корнелл Бан в своих «Правящих идеях». Пан сравнивает происхождение и преобразования внутри Неолиберализма в Испании и Румынии. В случае Испании неолиберализация происходила в два этапа. Первое началось в 1982 году, когда правящая Социалистическая партия (PSOE) сократила государственные расходы, повысила процентные ставки и ликвидировала убыточные государственные фирмы. Хотя кажется, что PSOE просто следовали за неолиберальным сценарием Рейгана-Тэтчер. Запрет напоминает нам, что эти меры ограничения были связаны с защитными мерами, включая универсальное медицинское страхование и государственные инвестиции в образование, уход за детьми и пенсии. Эти расширения до государства всеобщего благосостояния были оплачены прогрессивным налогообложением доходов и более высокими налогами на имущество и прибыль. В целом. Пан утверждает, что то, что было создано в 1982 году, было своего рода гибридом «встроенного неолиберализма».
Почему социальная и экономическая политика PSOE приняла такую форму? Как показывает запрет, неолиберальные реформы были глубоко спорными, поскольку глава PSOE, министерство финансов и испанский центральный банк настаивали на реформах против оппозиции со стороны левого крыла и организованного труда. Хотя Пан отмечает, что идеи экспертов-экономистов были важны, особенно те, которые были предложены Исследовательской службой Центрального банка, которые изложили принципы новой экономической повестки дня, он также подчеркивает, что именно институциональные и политические факторы позволили этим идеям оказывать значительное влияние на процесс выработки политики. У чиновников Центрального банка были прочные связи с главой правящей Социалистической партии, в то время как конфигурация Социалистической партии была такова, что высшие партийные чиновники были эффективно изолированы от левого крыла и организованного труда.
В 2008 году PSOE пошел против неолиберального сценария и противостоял возникающему финансовому кризису «встроенным неолиберальным» способом с дефицитными расходами. Тем не менее, по мере обострения кризиса, государство не только отказалось от дополнительных расходов, но и ввело жесткие меры жесткой экономии, которые подорвали его приверженность социальной защите и привели к поражению партии от правоцентристской партии Partido Popular в 2011 году. Почему же произошел столь резкий поворот в экономической политике PSOE во время кризиса? Что показывает запрет, так это то, что, хотя государственные политики могли указывать на растущий объем научных публикаций ведущих американских экономистов, оказывающих экспертную поддержку программе стимулирования, эти экспертные взгляды не могут противостоять политической власти Европейской комиссии и Европейского центрального банка, оба из которых требовали жесткой экономии в обмен на столь необходимые спасения финансового сектора.
Правящие идеи демонстрируют перспективу интеграции богатого, детального анализа политических игроков и их идей с многоуровневым анализом институционального и структурного давления, которое нарушает баланс материальных сил и повышает способность некоторых людей воплощать свои идеи в жизнь. К сожалению, обещание не выполняется в значительной степени из-за настойчивости Бана представить эту сложную динамику в свете идей. Он описывает МВФ и Всемирный банк как «лаборатории», из которых возникают неолиберальные идеи, метафора, которая подчеркивает интеллектуализм и опыт и преуменьшает материальные интересы. Будучи произведенными в этих лабораториях, неолиберальные идеи «переводятся» национальными политическими элитами, которые переделывают их в соответствии с внутренним контекстом. Эти идеальные атрибуты служат только для того, чтобы запутать то, что в противном случае было ясным и убедительным аргументом.
Идеи экспертов, даже те, которые возникают из аполитичных глубин академических отделов и исследовательских центров, имеют одинаковую форму и определяются выравниванием материальных сил. «Лаборатории» неолиберальных идей не являются цитаделями чисто экономических рассуждений и дебатов, какими метафора Бана воображает их. Это раскрывается в «Идеях капитала», рассказе Джеффри Чуверота о том, как МВФ перешел от жестких ограничений на международные потоки краткосрочного спекулятивного капитала к активному стороннику либерализации счета капитала к 1980-м годам. Благодаря обширным архивным исследованиям, Чуверот фокусируется на экспертах, которые составляют персонал МВФ; небольшая армия докторов экономических наук трудится в своих офисах, анализируя глобальные и страновые данные, которые служат основой для их докладов и рекомендаций. «Идеи капитала» документируют продолжающуюся борьбу идей между между «выпускниками», которые выступали с осторожностью, когда речь шла о контроле над капиталом, и неолиберальными «большими бандитами», которые полагали, что быстрое, повсеместное снятие контроля над капиталом было именно тем, в мировая экономика нуждается. Преобразование МВФ от нервного соседского контроля за глобальным капитализмом к злодейскому бедствию бедных стран происходит в результате этих идейных дебатов, которые, по мнению Чуверота, двигаются смещением экспертных норм в области международной экономики, которые изменяют принятые как должное предположения о том, что является, а что нет, соответствующей политикой.
Учитывая, что экономисты, работающие в составе персонала МВФ, обладают значительной автономией в отношении своих анализов и рекомендаций, Чуверот имеет все возможности для того, чтобы дать сильное, основанное на идеях объяснение изменчивого поведения Фонда. Но на самом деле он показывает, что, несмотря на организационную автономию аналитиков, их идейное влияние было сильно ограничено экономическими и политическими факторами. Это наиболее четко видно в последней главе «Идеи капитала», в которой спрашивается, почему сотрудники МВФ не выступали за «макропруденциальное» регулирование участников мирового финансового рынка в начале 2000-х годов, которое, если бы оно было реализовано, предотвратило бы наращивание масштабных, многослойных долгов в мировой экономике, которые создали условия для экономического кризиса 2008 года. Было ли это из-за приверженности персонала идеям, лежащим в основе либерализации капитала, или из-за отсутствия понимания того, как работает макрорегулирование? Ответ «нет» на оба вопроса. Чуверот показывает, как неолиберальные, либерализующие капитал идеи, набравшие силу в 1980-х и начале 1990-х годов, были серьезно ослаблены после финансового кризиса в Азии в 1997 году, что заставило персонал гораздо более осторожно относиться к либерализации капитала и гораздо более открыто признавать, что имело место потребность в положениях о финансовом капитале.
Тем не менее, сотрудники избегали споров о макропруденциальном регулировании, потому что они знали, что «принципы МВФ» - что США и Великобритания - предпочитают более мягкий, саморегулирующийся подход, который пойдет на пользу огромным хедж-фондам, которые сделали Уолл-стрит и Лондонский Сити финансовыми центрами. «Если бы сотрудники Фонда настаивали на регулятивных мерах в сфере предложения, - пишет Чуверот, - они в конечном итоге столкнулись бы с предпочтениями своих самых влиятельных руководителей». Хорошо зная о политических последствиях своей работы, персонал, таким образом, создавал и распространял их анализ и рекомендации стратегически.
Чуверот представляет это столкновение между конкурирующими группами экспертов в идеологическом свете, утверждая, что он показывает, как контекст формирует процесс нормативных изменений, а не как политика возникает в результате прямого давления со стороны влиятельных действующих лиц. И в этом узком смысле он прав: давление со стороны США или Великобритании не является прямым, потому что это не обязательно. Завершая свой анализ таким образом, Чуверот упускает возможность разобраться со сложными отношениями между политической властью и идеями, которые раскрывает его собственное исследование. Принимая во внимание, что авторы «Дороги от Мон-Пелерина» показывают прямые, явные способы, которыми материальное преимущество формирует идеи, анализ Чуверота показывает более тонкую, гегемонистскую силу тех, кто обладает сильным материальным преимуществом; им не нужно говорить то, что они хотят, подчиненные усваивают свои предпочтения и действуют так, как, по их мнению, те, кто обладает властью, хотят, чтобы они действовали. Конечный результат, однако, тот же.
В целом, эти работы описывают рост и устойчивость неолиберализма таким образом, что, на первый взгляд, подчеркивает независимую роль, которую сыграли эксперты и их идеи. И все же, поскольку каждый исследователь контекстуализирует экспертов, их идеи и институты, в которых они живут, в более широком наборе политических и материальных факторов, возникающий нарратив ясно показывает, что власть экспертов или их идеи не могут быть поняты отдельно от этих факторов. Только посредством сложных аналитических искажений они могут удерживать экспертов и их идеи в центре объяснения, приводя к повествованиям, которые многое нам рассказывают об истории отдельных экспертов и их идеях, но не дают понять, как идеология пересекалась с материальной силой продвижения неолиберальной повестки дня.
Структурная динамика, расширяющая возможности мировой финансовой элиты, является не только ключом к пониманию истоков неолиберализма, но и его стойкости в форме жесткой экономии после 2008 года, как показывает Корнелл Бан в своих «Правящих идеях». Пан сравнивает происхождение и преобразования внутри Неолиберализма в Испании и Румынии. В случае Испании неолиберализация происходила в два этапа. Первое началось в 1982 году, когда правящая Социалистическая партия (PSOE) сократила государственные расходы, повысила процентные ставки и ликвидировала убыточные государственные фирмы. Хотя кажется, что PSOE просто следовали за неолиберальным сценарием Рейгана-Тэтчер. Запрет напоминает нам, что эти меры ограничения были связаны с защитными мерами, включая универсальное медицинское страхование и государственные инвестиции в образование, уход за детьми и пенсии. Эти расширения до государства всеобщего благосостояния были оплачены прогрессивным налогообложением доходов и более высокими налогами на имущество и прибыль. В целом. Пан утверждает, что то, что было создано в 1982 году, было своего рода гибридом «встроенного неолиберализма».
Почему социальная и экономическая политика PSOE приняла такую форму? Как показывает запрет, неолиберальные реформы были глубоко спорными, поскольку глава PSOE, министерство финансов и испанский центральный банк настаивали на реформах против оппозиции со стороны левого крыла и организованного труда. Хотя Пан отмечает, что идеи экспертов-экономистов были важны, особенно те, которые были предложены Исследовательской службой Центрального банка, которые изложили принципы новой экономической повестки дня, он также подчеркивает, что именно институциональные и политические факторы позволили этим идеям оказывать значительное влияние на процесс выработки политики. У чиновников Центрального банка были прочные связи с главой правящей Социалистической партии, в то время как конфигурация Социалистической партии была такова, что высшие партийные чиновники были эффективно изолированы от левого крыла и организованного труда.
В 2008 году PSOE пошел против неолиберального сценария и противостоял возникающему финансовому кризису «встроенным неолиберальным» способом с дефицитными расходами. Тем не менее, по мере обострения кризиса, государство не только отказалось от дополнительных расходов, но и ввело жесткие меры жесткой экономии, которые подорвали его приверженность социальной защите и привели к поражению партии от правоцентристской партии Partido Popular в 2011 году. Почему же произошел столь резкий поворот в экономической политике PSOE во время кризиса? Что показывает запрет, так это то, что, хотя государственные политики могли указывать на растущий объем научных публикаций ведущих американских экономистов, оказывающих экспертную поддержку программе стимулирования, эти экспертные взгляды не могут противостоять политической власти Европейской комиссии и Европейского центрального банка, оба из которых требовали жесткой экономии в обмен на столь необходимые спасения финансового сектора.
Правящие идеи демонстрируют перспективу интеграции богатого, детального анализа политических игроков и их идей с многоуровневым анализом институционального и структурного давления, которое нарушает баланс материальных сил и повышает способность некоторых людей воплощать свои идеи в жизнь. К сожалению, обещание не выполняется в значительной степени из-за настойчивости Бана представить эту сложную динамику в свете идей. Он описывает МВФ и Всемирный банк как «лаборатории», из которых возникают неолиберальные идеи, метафора, которая подчеркивает интеллектуализм и опыт и преуменьшает материальные интересы. Будучи произведенными в этих лабораториях, неолиберальные идеи «переводятся» национальными политическими элитами, которые переделывают их в соответствии с внутренним контекстом. Эти идеальные атрибуты служат только для того, чтобы запутать то, что в противном случае было ясным и убедительным аргументом.
Идеи экспертов, даже те, которые возникают из аполитичных глубин академических отделов и исследовательских центров, имеют одинаковую форму и определяются выравниванием материальных сил. «Лаборатории» неолиберальных идей не являются цитаделями чисто экономических рассуждений и дебатов, какими метафора Бана воображает их. Это раскрывается в «Идеях капитала», рассказе Джеффри Чуверота о том, как МВФ перешел от жестких ограничений на международные потоки краткосрочного спекулятивного капитала к активному стороннику либерализации счета капитала к 1980-м годам. Благодаря обширным архивным исследованиям, Чуверот фокусируется на экспертах, которые составляют персонал МВФ; небольшая армия докторов экономических наук трудится в своих офисах, анализируя глобальные и страновые данные, которые служат основой для их докладов и рекомендаций. «Идеи капитала» документируют продолжающуюся борьбу идей между между «выпускниками», которые выступали с осторожностью, когда речь шла о контроле над капиталом, и неолиберальными «большими бандитами», которые полагали, что быстрое, повсеместное снятие контроля над капиталом было именно тем, в мировая экономика нуждается. Преобразование МВФ от нервного соседского контроля за глобальным капитализмом к злодейскому бедствию бедных стран происходит в результате этих идейных дебатов, которые, по мнению Чуверота, двигаются смещением экспертных норм в области международной экономики, которые изменяют принятые как должное предположения о том, что является, а что нет, соответствующей политикой.
Учитывая, что экономисты, работающие в составе персонала МВФ, обладают значительной автономией в отношении своих анализов и рекомендаций, Чуверот имеет все возможности для того, чтобы дать сильное, основанное на идеях объяснение изменчивого поведения Фонда. Но на самом деле он показывает, что, несмотря на организационную автономию аналитиков, их идейное влияние было сильно ограничено экономическими и политическими факторами. Это наиболее четко видно в последней главе «Идеи капитала», в которой спрашивается, почему сотрудники МВФ не выступали за «макропруденциальное» регулирование участников мирового финансового рынка в начале 2000-х годов, которое, если бы оно было реализовано, предотвратило бы наращивание масштабных, многослойных долгов в мировой экономике, которые создали условия для экономического кризиса 2008 года. Было ли это из-за приверженности персонала идеям, лежащим в основе либерализации капитала, или из-за отсутствия понимания того, как работает макрорегулирование? Ответ «нет» на оба вопроса. Чуверот показывает, как неолиберальные, либерализующие капитал идеи, набравшие силу в 1980-х и начале 1990-х годов, были серьезно ослаблены после финансового кризиса в Азии в 1997 году, что заставило персонал гораздо более осторожно относиться к либерализации капитала и гораздо более открыто признавать, что имело место потребность в положениях о финансовом капитале.
Тем не менее, сотрудники избегали споров о макропруденциальном регулировании, потому что они знали, что «принципы МВФ» - что США и Великобритания - предпочитают более мягкий, саморегулирующийся подход, который пойдет на пользу огромным хедж-фондам, которые сделали Уолл-стрит и Лондонский Сити финансовыми центрами. «Если бы сотрудники Фонда настаивали на регулятивных мерах в сфере предложения, - пишет Чуверот, - они в конечном итоге столкнулись бы с предпочтениями своих самых влиятельных руководителей». Хорошо зная о политических последствиях своей работы, персонал, таким образом, создавал и распространял их анализ и рекомендации стратегически.
Чуверот представляет это столкновение между конкурирующими группами экспертов в идеологическом свете, утверждая, что он показывает, как контекст формирует процесс нормативных изменений, а не как политика возникает в результате прямого давления со стороны влиятельных действующих лиц. И в этом узком смысле он прав: давление со стороны США или Великобритании не является прямым, потому что это не обязательно. Завершая свой анализ таким образом, Чуверот упускает возможность разобраться со сложными отношениями между политической властью и идеями, которые раскрывает его собственное исследование. Принимая во внимание, что авторы «Дороги от Мон-Пелерина» показывают прямые, явные способы, которыми материальное преимущество формирует идеи, анализ Чуверота показывает более тонкую, гегемонистскую силу тех, кто обладает сильным материальным преимуществом; им не нужно говорить то, что они хотят, подчиненные усваивают свои предпочтения и действуют так, как, по их мнению, те, кто обладает властью, хотят, чтобы они действовали. Конечный результат, однако, тот же.
В целом, эти работы описывают рост и устойчивость неолиберализма таким образом, что, на первый взгляд, подчеркивает независимую роль, которую сыграли эксперты и их идеи. И все же, поскольку каждый исследователь контекстуализирует экспертов, их идеи и институты, в которых они живут, в более широком наборе политических и материальных факторов, возникающий нарратив ясно показывает, что власть экспертов или их идеи не могут быть поняты отдельно от этих факторов. Только посредством сложных аналитических искажений они могут удерживать экспертов и их идеи в центре объяснения, приводя к повествованиям, которые многое нам рассказывают об истории отдельных экспертов и их идеях, но не дают понять, как идеология пересекалась с материальной силой продвижения неолиберальной повестки дня.
ПОЛИТИКА, ВЛАСТЬ И ИДЕОЛОГИЯ
“
Процесс, в соответствии с которым одна политическая парадигма приходит на смену другой, скорее всего, будет скорее социологическим, чем научным. То есть, хотя изменяющиеся взгляды экспертов могут играть роль, их взгляды, вероятно, будут противоречивыми, и выбор между парадигмами редко может быть сделан только на научной основе. Переход от одной парадигмы к другой, в конечном счете, повлечет за собой ряд политических решений, и результат будет зависеть не только от аргументов конкурирующих фракций, но и от их позиционных преимуществ в более широкой институциональной структуре, от вспомогательных ресурсы, которыми они могут распоряжаться в соответствующих конфликтах и на внешних факторах, влияющих на способность одних действующих лиц навязывать свою парадигму другим.
Опубликованный почти тридцать лет назад, отредактированный том Питера Холла «Политическая сила экономических идей», как и "Великие трансформации" Блайта, создал импульс для недавней волны идея-центричной политической экономии. Собрав воедино «кто есть кто» из сравнительных политологов и исторических политических социологов, Холл рассматривает во вводной главе «почему экономическая теория влияет на политику в каких-то местах и периодах, но не в других». И все же, несмотря на этот конкретный вопрос и название книги, в которой она фигурирует, большая часть содержания опровергает идейно-ориентированное объяснение распространения кейнсианского экономического управления в послевоенный период. Холл и его сотрудники глубоко скептически относились к представлению о том, что идеи должны рассматриваться как обладающие некоторой автономной причинной силой, и поэтому они тщательно разработали исторические описания послевоенного кейнсианства как набора идей, основанных на более широком социальном контексте. В результате у читателей этого тома должно сложиться впечатление, что сила экономической идеи, даже такой, как кейнсианство, которая определила работу поколений профессиональных экономистов и послевоенную экономическую политику на Западе, исходит от сил, которыми они встроены, а не их внутреннего содержание. И все же большинство ученых, которые строят свою собственную работу на фундаменте, заложенном «Политической властью экономических идей», упускают это ключевое понимание и настаивают на том, что весомость идей иходит независимо от социальных сил.
Аргумент Марка Блайта в «Великих трансформациях» о том, что сила идей исходит от их способности создавать и мобилизовать мощные политические коалиции, по сути, является повторением того же аргумента Филиппа Гуревича о том, что идея «управления спросом» была стратегически использована политическими элитами как способ создания новой, межклассовой коалиции для Демократической партии. Разница в том, что Гуревич придает гораздо больший вес этим политическим коалициям и материальным условиям, которые их определяли. Маргарет Вейр добавляет к этому отчету, отмечая, что, хотя политические элиты как в США, так и в Великобритании имели доступ к одному и тому же набору кейнсианских идей, британская послевоенная политика привела к усилению защиты труда и усилению государства всеобщего благосостояния. Причина в том, что рабочий класс был там политически намного сильнее, чем в США. Эти же наборы сил также помогают нам понять, почему потребовалось так много времени, чтобы начать борьбу с депрессией с помощью инструментов управления спросом. Как отмечает в своем выступлении Брэдфорд Ли, в США было много уважаемых «протокейнсианских» экономистов, которые боролись за стимулирование спроса, но их идеи не имели никакой силы, потому что они не могли найти место, чтобы представлять их в администрации Гувера.
Скорее, как показывает Вейр, иерархические структуры США и британского государства закрепляли «Взгляды казначейства» в 1920-х и 1930-х годах, взгляд, который был укреплен в Великобритании, как описывает Дональд Уинч, структурной позицией лондонского Сити как центра глобальной финансовой системы с доминированием стерлинга.
Читаемые вместе, эти эссе объясняют силу - или ее отсутствие - идей экономической политики в кейнсианском стиле, помещая эти идеи и действующих лиц, которые продвигали их, в рамках исторических, институциональных и структурных факторов, определенных, частично, материальными силами. Чтобы быть ясным, многие аспекты того, что в настоящее время является тридцатилетними публикациями, не отражаются в свете новых исследований, а являются общим подходом к пониманию всемирно-исторических политических и экономических изменений, если целью является продвижение исследования неолиберализм вперед и, что более важно, продвижение антинеолиберального политического проекта, мы могли бы сделать намного хуже, чем вернуться к исследовательской повестке дня, предложенной «Политической властью экономических идей». Важно то, что это означает признание того факта, что идеи, даже мрачные, технократические идеи профессиональных экономистов, не могут быть поняты вне политического контекста, который придает идеям форму и влияние.
Если нужно убедиться в этом, им нужно только прочитать недавних «Глобалистов» Куинна Слободяна, в которых раскрывается элитарный, прокапиталистический политический проект, который всегда был в основе неолиберализма. Большая часть текста посвящена показу средств, с помощью которых экономисты и политологи хайекианцы оказывали влияние на международные экономические организации по ключевым вопросам политики, таким как свободная торговля. И все же, что отличает этот текст от других в этой традиции, так это его явное признание того, как неолиберализм является политическим, классовым проектом. Это экономическая повестка дня, прямо сфокусированная на ограничении влияния народного давления, особенно давления, основанного на классах, для экономического перераспределения.
Основным направлением исследований Слободяна является часто упускаемая из виду «Женевская школа» политической и экономической мысли, пожалуй, самым известным членом которой является Людвиг фон Мизес. Именно отсюда, а не с вершины Мон-Пелерина или залов Чикагского университета, Слободиан прослеживает истоки неолиберальных идей и принципов. Однако, в то время как политическая экономия, основанная на идеях, которая фокусируется на интеллектуалах и экспертах, часто преуменьшает важность материальной и классовой политики, Слободян прорезает интеллектуальные, экономические атрибуты ранней неолиберальной мысли, чтобы разоблачить классовый политический проект, который был в его ядре.
Во вступительной главе Слободян напоминает нам, что неолиберальная мысль, и в частности ее увлечение «открытостью» и «свободой» (то, что Блок и Сомерс могли бы назвать «рыночным фундаментализмом»), была реакцией на политические потрясения Европы 1920-х годов. Наблюдая за массовыми демонстрациями и мобилизацией рабочих, которые настигли «Красную Вену», Мизес не только призвал государство подавить эти движения силой, но и представил сильную наднациональную политическую власть, которая обеспечит свободную торговлю и мобильность свободного капитала в качестве средства дисциплинирования национальных правительств, которые, как он чувствовал, поддаются демократии. В этом усилии Мизес и другие неолибералы Женевской школы установили симбиотические отношения с интернационально ориентированными капиталистами. Большая часть ранней работы самого Мизеса от имени Торговой палаты выступала за снижение налогов на бизнес и ограничение организованного труда. Когда неолиберальная повестка дня перешла в глобальный масштаб, неолиберальные интеллектуалы тесно сотрудничали с Международной торговой палатой, чтобы, как хорошо выразился Слободян, «защищать интересы определенного класса, которым угрожают».
Один из самых важных моментов, на котором Слободян справедливо настаивает, чтобы мы понимали - заключается в том, что неспособность установить эти связи между идеями и материальной властью - это не просто плохая социальная наука, а она отыгрывает правильную роль в неолиберальной политической повестке дня. В заключении "Глобалисты" Слободян дает нам понять, что неолибералы не делали упор на «рынки» и «экономическую свободу», чтобы уменьшить государство; они говорили об экономике в абстрактных, универсалистских терминах, чтобы скрыть фундаментальные структурные дисбалансы, которые были характерны для капитализма. Международные правила, регулирующие торговлю и мобильность капитала, не «выравнивают игровое поле», они окутывают поле, склоненное в пользу капитала в тумане лженауки и интеллектуализма.
Идея-центричная политическая экономия скрывает эту критическую точку. В то же время, как совокупность богатых, тщательных исследований и анализа основных действующих лиц и институтов, которые распространяют неолиберальную идеологию, и конкретных исторических случаев, когда неолиберальная повестка дня развернулась, эта школа также раскрывает, по крайней мере, два конкретных способа продвижения этого научного проекта.
Во-первых, исследованиям политической экономии, будь то идейно-ориентированная или материалистическая, чаще мешает, чем помогает кризис-стабильность-кризис-стабильность подход, который многие из этих научных школ берут за структурную временную смену. Почти все работы, рассмотренные здесь, придают большое значение роли кризисов в разрушении преобладающих идей и открытии пространства для новых. В некоторых версиях, таких как "Великая.." Блита и "Фундаментализм рынка" Блока и Сомерса, нет места политическим или идеалистическим конфликтам во время эпох стабильности, которые предшествуют кризису и следуют за ним. Как только Великая Депрессия разрешается по кейнсианской линии, все читается как кейнсианская; как только кейнсианство уступает место неолиберализму после кризисов 1970-х и 1980-х годов, все становится неолиберальным.
Одна из сильных сторон идейно-ориентированной политической экономии заключается в том, что, концентрируясь на конкретных субъектах, в конкретных институтах или национальных контекстах, она может выявить тонкие, но важные идеологические и политические конфликты, которые возникают и колеблются в течение так называемых периодов стабильности: анализ Бабба о возникающем конфликте между экономистами, занимающимися вопросами развития и неолиберальными экономиками в Мексике, Чуверот раскрывает дебаты между «градуалистами» и «крупными гангстерами» в МВФ, и такие работы как «Глобалисты» и «Дорога из Мон Пелерин», документируют интенсивную работу, которая велась в 1940-х годах и 1950-е годы для продвижения неолиберальных экономических принципов. Обращая внимание на идеологическую и политическую работу, которую выполняют слабые в эти периоды - протокейнсианцы 1920-х годов или неолибералы европейского стиля 1940-х и 1950-х годов - и подчеркивая периодические конфликты между идеологическими и политическими группировками, видно, что «Кризисная» модель происхождения неолиберализма переоценена.
Во-вторых, в то время как каждая из работ здесь посвящена различным группам интеллектуалов и экспертов, в разных странах в разные периоды времени почти все они указывают на один и тот же набор действующих лиц как на ключ к неолиберальному прогрессу: финансовые элиты и их защитники в государстве из ЦБ. И Сара Бэбб, и Корнелл Бан описывают важную роль, которую мексиканские и испанские центральные банки сыграли в создании неолиберальных интеллектуальных плацдармов; помощь в создании Мексиканского технологического института, в котором будут работать неолиберальные экономисты страны, и в Испании поддержка неолиберальных экономистов, прошедших обучение на Западе, и распространение их идей через исследовательскую службу Центрального банка. Джеффри Чуверот проводит важную связь между сопротивлением контроля над капиталом со стороны США и Великобритании и тем фактом, что обе страны являются глобальными финансовыми центрами с мощными финансовыми интересами. Марк Блит также показывает, что приверженность строгой экономии и ее следствие, «разумные деньги», действительно связаны с финансовыми интересами, стремящимися защитить стоимость своих активов.
Аргумент Марка Блайта в «Великих трансформациях» о том, что сила идей исходит от их способности создавать и мобилизовать мощные политические коалиции, по сути, является повторением того же аргумента Филиппа Гуревича о том, что идея «управления спросом» была стратегически использована политическими элитами как способ создания новой, межклассовой коалиции для Демократической партии. Разница в том, что Гуревич придает гораздо больший вес этим политическим коалициям и материальным условиям, которые их определяли. Маргарет Вейр добавляет к этому отчету, отмечая, что, хотя политические элиты как в США, так и в Великобритании имели доступ к одному и тому же набору кейнсианских идей, британская послевоенная политика привела к усилению защиты труда и усилению государства всеобщего благосостояния. Причина в том, что рабочий класс был там политически намного сильнее, чем в США. Эти же наборы сил также помогают нам понять, почему потребовалось так много времени, чтобы начать борьбу с депрессией с помощью инструментов управления спросом. Как отмечает в своем выступлении Брэдфорд Ли, в США было много уважаемых «протокейнсианских» экономистов, которые боролись за стимулирование спроса, но их идеи не имели никакой силы, потому что они не могли найти место, чтобы представлять их в администрации Гувера.
Скорее, как показывает Вейр, иерархические структуры США и британского государства закрепляли «Взгляды казначейства» в 1920-х и 1930-х годах, взгляд, который был укреплен в Великобритании, как описывает Дональд Уинч, структурной позицией лондонского Сити как центра глобальной финансовой системы с доминированием стерлинга.
Читаемые вместе, эти эссе объясняют силу - или ее отсутствие - идей экономической политики в кейнсианском стиле, помещая эти идеи и действующих лиц, которые продвигали их, в рамках исторических, институциональных и структурных факторов, определенных, частично, материальными силами. Чтобы быть ясным, многие аспекты того, что в настоящее время является тридцатилетними публикациями, не отражаются в свете новых исследований, а являются общим подходом к пониманию всемирно-исторических политических и экономических изменений, если целью является продвижение исследования неолиберализм вперед и, что более важно, продвижение антинеолиберального политического проекта, мы могли бы сделать намного хуже, чем вернуться к исследовательской повестке дня, предложенной «Политической властью экономических идей». Важно то, что это означает признание того факта, что идеи, даже мрачные, технократические идеи профессиональных экономистов, не могут быть поняты вне политического контекста, который придает идеям форму и влияние.
Если нужно убедиться в этом, им нужно только прочитать недавних «Глобалистов» Куинна Слободяна, в которых раскрывается элитарный, прокапиталистический политический проект, который всегда был в основе неолиберализма. Большая часть текста посвящена показу средств, с помощью которых экономисты и политологи хайекианцы оказывали влияние на международные экономические организации по ключевым вопросам политики, таким как свободная торговля. И все же, что отличает этот текст от других в этой традиции, так это его явное признание того, как неолиберализм является политическим, классовым проектом. Это экономическая повестка дня, прямо сфокусированная на ограничении влияния народного давления, особенно давления, основанного на классах, для экономического перераспределения.
Основным направлением исследований Слободяна является часто упускаемая из виду «Женевская школа» политической и экономической мысли, пожалуй, самым известным членом которой является Людвиг фон Мизес. Именно отсюда, а не с вершины Мон-Пелерина или залов Чикагского университета, Слободиан прослеживает истоки неолиберальных идей и принципов. Однако, в то время как политическая экономия, основанная на идеях, которая фокусируется на интеллектуалах и экспертах, часто преуменьшает важность материальной и классовой политики, Слободян прорезает интеллектуальные, экономические атрибуты ранней неолиберальной мысли, чтобы разоблачить классовый политический проект, который был в его ядре.
Во вступительной главе Слободян напоминает нам, что неолиберальная мысль, и в частности ее увлечение «открытостью» и «свободой» (то, что Блок и Сомерс могли бы назвать «рыночным фундаментализмом»), была реакцией на политические потрясения Европы 1920-х годов. Наблюдая за массовыми демонстрациями и мобилизацией рабочих, которые настигли «Красную Вену», Мизес не только призвал государство подавить эти движения силой, но и представил сильную наднациональную политическую власть, которая обеспечит свободную торговлю и мобильность свободного капитала в качестве средства дисциплинирования национальных правительств, которые, как он чувствовал, поддаются демократии. В этом усилии Мизес и другие неолибералы Женевской школы установили симбиотические отношения с интернационально ориентированными капиталистами. Большая часть ранней работы самого Мизеса от имени Торговой палаты выступала за снижение налогов на бизнес и ограничение организованного труда. Когда неолиберальная повестка дня перешла в глобальный масштаб, неолиберальные интеллектуалы тесно сотрудничали с Международной торговой палатой, чтобы, как хорошо выразился Слободян, «защищать интересы определенного класса, которым угрожают».
Один из самых важных моментов, на котором Слободян справедливо настаивает, чтобы мы понимали - заключается в том, что неспособность установить эти связи между идеями и материальной властью - это не просто плохая социальная наука, а она отыгрывает правильную роль в неолиберальной политической повестке дня. В заключении "Глобалисты" Слободян дает нам понять, что неолибералы не делали упор на «рынки» и «экономическую свободу», чтобы уменьшить государство; они говорили об экономике в абстрактных, универсалистских терминах, чтобы скрыть фундаментальные структурные дисбалансы, которые были характерны для капитализма. Международные правила, регулирующие торговлю и мобильность капитала, не «выравнивают игровое поле», они окутывают поле, склоненное в пользу капитала в тумане лженауки и интеллектуализма.
Идея-центричная политическая экономия скрывает эту критическую точку. В то же время, как совокупность богатых, тщательных исследований и анализа основных действующих лиц и институтов, которые распространяют неолиберальную идеологию, и конкретных исторических случаев, когда неолиберальная повестка дня развернулась, эта школа также раскрывает, по крайней мере, два конкретных способа продвижения этого научного проекта.
Во-первых, исследованиям политической экономии, будь то идейно-ориентированная или материалистическая, чаще мешает, чем помогает кризис-стабильность-кризис-стабильность подход, который многие из этих научных школ берут за структурную временную смену. Почти все работы, рассмотренные здесь, придают большое значение роли кризисов в разрушении преобладающих идей и открытии пространства для новых. В некоторых версиях, таких как "Великая.." Блита и "Фундаментализм рынка" Блока и Сомерса, нет места политическим или идеалистическим конфликтам во время эпох стабильности, которые предшествуют кризису и следуют за ним. Как только Великая Депрессия разрешается по кейнсианской линии, все читается как кейнсианская; как только кейнсианство уступает место неолиберализму после кризисов 1970-х и 1980-х годов, все становится неолиберальным.
Одна из сильных сторон идейно-ориентированной политической экономии заключается в том, что, концентрируясь на конкретных субъектах, в конкретных институтах или национальных контекстах, она может выявить тонкие, но важные идеологические и политические конфликты, которые возникают и колеблются в течение так называемых периодов стабильности: анализ Бабба о возникающем конфликте между экономистами, занимающимися вопросами развития и неолиберальными экономиками в Мексике, Чуверот раскрывает дебаты между «градуалистами» и «крупными гангстерами» в МВФ, и такие работы как «Глобалисты» и «Дорога из Мон Пелерин», документируют интенсивную работу, которая велась в 1940-х годах и 1950-е годы для продвижения неолиберальных экономических принципов. Обращая внимание на идеологическую и политическую работу, которую выполняют слабые в эти периоды - протокейнсианцы 1920-х годов или неолибералы европейского стиля 1940-х и 1950-х годов - и подчеркивая периодические конфликты между идеологическими и политическими группировками, видно, что «Кризисная» модель происхождения неолиберализма переоценена.
Во-вторых, в то время как каждая из работ здесь посвящена различным группам интеллектуалов и экспертов, в разных странах в разные периоды времени почти все они указывают на один и тот же набор действующих лиц как на ключ к неолиберальному прогрессу: финансовые элиты и их защитники в государстве из ЦБ. И Сара Бэбб, и Корнелл Бан описывают важную роль, которую мексиканские и испанские центральные банки сыграли в создании неолиберальных интеллектуальных плацдармов; помощь в создании Мексиканского технологического института, в котором будут работать неолиберальные экономисты страны, и в Испании поддержка неолиберальных экономистов, прошедших обучение на Западе, и распространение их идей через исследовательскую службу Центрального банка. Джеффри Чуверот проводит важную связь между сопротивлением контроля над капиталом со стороны США и Великобритании и тем фактом, что обе страны являются глобальными финансовыми центрами с мощными финансовыми интересами. Марк Блит также показывает, что приверженность строгой экономии и ее следствие, «разумные деньги», действительно связаны с финансовыми интересами, стремящимися защитить стоимость своих активов.
Обнаружение того, что неолиберальным проектом руководил определенный набор классовых интересов, связанных с финансовым рычагом государства, является не столько открытием, сколько подтверждением того, что давно было понято многими, включая не менее центральную фигуру для идейно-ориентированной политической экономии, чем сам Джон Мейнард Кейнс. Как напоминает нам Брэдфорд Ли в своей подаче в «Политическая сила экономических идей», в 1920-х и 1930-х годах Кейнс преднамеренно нацелил свою академическую работу против классических либералов и монетаристов, как это видно из его другого основного, хотя и менее известного, «Трактата о деньгах». Но даже будучи опытным экономистом, чьи средства участия были академическими публикациями и научными дебатами, Кейнс понимал, что для защиты общества от варварства монетарной ортодоксальности необходимо создавать институты для проверки власти финансовых интересов. Он предложил, чтобы Международный Клиринговый Союз управлял финансовыми делами послевоенных стран не потому, что, по его мнению, он основан на более здравых экономических принципах, а потому, что он отрезал бы мировую финансовую элиту от колен, лишив их способности навязывать меры жесткой экономии странам с дефицитом, отказавшись от "столь-необходимого" кредитования.
Власть и идеология финансов, а также роль, которую частные и государственные финансовые институты - инвестиционные банки и центральные банки, управляющие хедж-фондами и министры финансов - давно и по сей день продолжают играть в подрыве прогрессивной, эгалитарно обещанной массовой демократии нуждается в более тщательном изучении, и для этой работы необходимо использовать импульс, чтобы проследить конкретные проявления этой политической повестки дня для действующих лиц, которые применяют ее на практике, которая направляет идея-ориентированную политическую экономию. Но позиционирование политических и экономических идей как первоочередных и независимых от структурных, институциональных и исторических факторов, формирующих баланс материальной власти, имеет сомнительную научную ценность и политически опасно.
Неолиберализм прогрессирует и сохраняется, когда его агенты настаивают на том, что их повестка дня касается не консолидации политической и экономической власти, а только идей: поиска «наилучших» решений сложных проблем. Снятие политики материальной борьбы с анализа неолиберализма играет прямо на эту повестку дня. Снова и снова ученые могут историзировать, денатурализовать и усложнять упрощенные идеологии неолиберализма, но это не меняет силы, которую неолиберальные силы имеют для продвижения этих идеологий.
Власть и идеология финансов, а также роль, которую частные и государственные финансовые институты - инвестиционные банки и центральные банки, управляющие хедж-фондами и министры финансов - давно и по сей день продолжают играть в подрыве прогрессивной, эгалитарно обещанной массовой демократии нуждается в более тщательном изучении, и для этой работы необходимо использовать импульс, чтобы проследить конкретные проявления этой политической повестки дня для действующих лиц, которые применяют ее на практике, которая направляет идея-ориентированную политическую экономию. Но позиционирование политических и экономических идей как первоочередных и независимых от структурных, институциональных и исторических факторов, формирующих баланс материальной власти, имеет сомнительную научную ценность и политически опасно.
Неолиберализм прогрессирует и сохраняется, когда его агенты настаивают на том, что их повестка дня касается не консолидации политической и экономической власти, а только идей: поиска «наилучших» решений сложных проблем. Снятие политики материальной борьбы с анализа неолиберализма играет прямо на эту повестку дня. Снова и снова ученые могут историзировать, денатурализовать и усложнять упрощенные идеологии неолиберализма, но это не меняет силы, которую неолиберальные силы имеют для продвижения этих идеологий.
~
переклад з англ. Єрмолаєв Дмитро
Catalyst / vol2/ no3/ fall 2018
Catalyst / vol2/ no3/ fall 2018
Сподобалась стаття? Допоможи нам стати кращими. Даний медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!
Ще матеріали за темою: