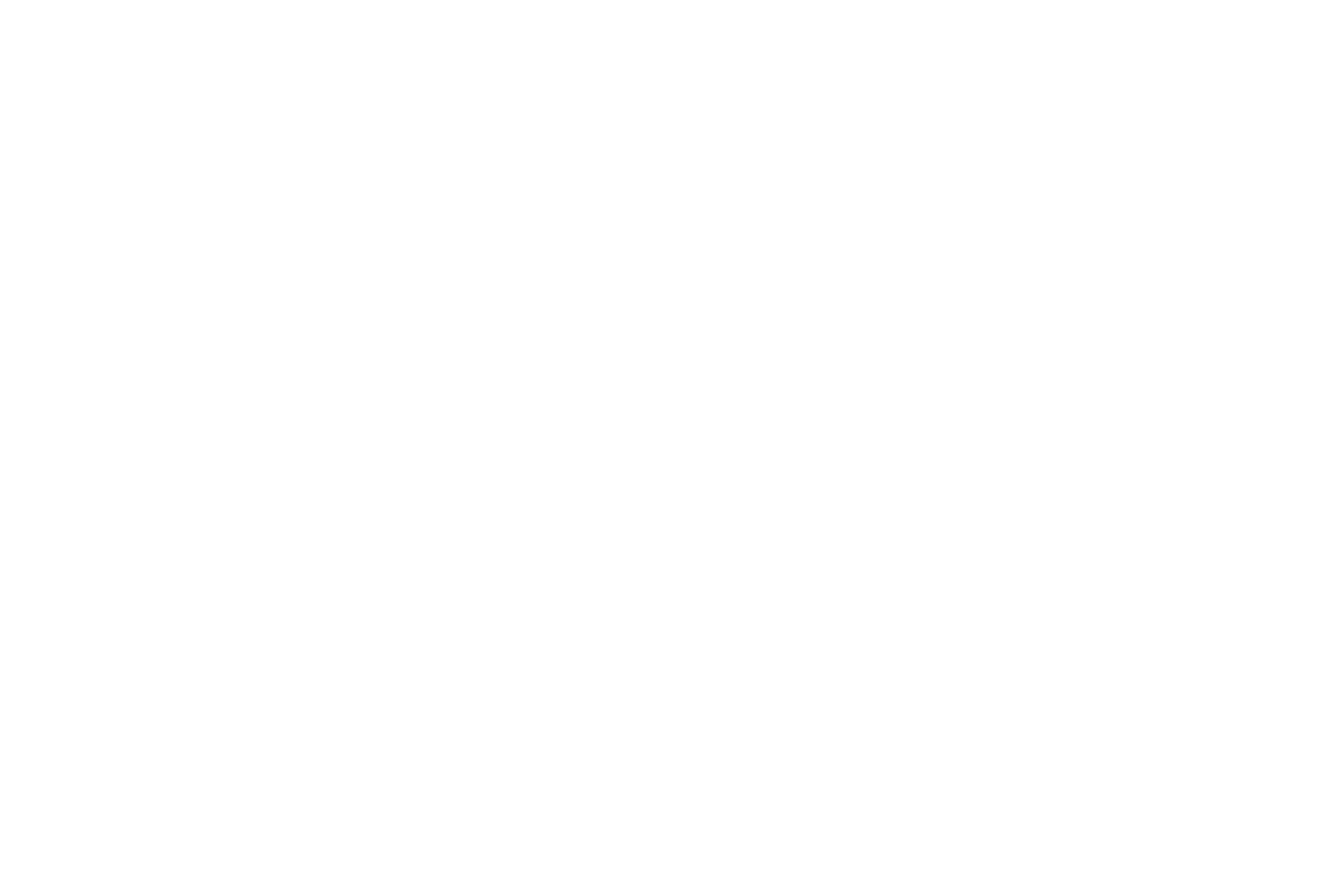© 2019 Strategic Group.Media
КРИЗИС «ИДЕНТИЧНОСТИ»:
культурная память по ту сторону правой ностальгии и либеральной терапии
Понятие идентичности обсуждается в российских социальной антропологии, философии культуры, политологии и исследованиях памяти относительно недавно, но уже успело стать настолько же широким и популярным термином, как в свое время «ментальность» или «постмодернизм». «Проблема идентичности - одна из самых навязчивых и подробно дискутируемых в сегодняшней мысли, философии, культуре», - отмечал еще в 2011 году Евгений Рашковский [1]. В центре этих дискуссий чаще всего оказывается понятие «национальной идентичности», при использовании которого происходит неотрефлексированное соединение двух принципиально отличных теоретических подходов: конструктивистского исследования наций (национализмов) и эссенциалистского понимания культуры. И обращение к метафорике исторической или культурной памяти помогает смягчить, риторически завуалировать нестыковку между ними. Впрочем, прагматическое соотнесение культурной памяти и национальной идентичности в 2010-е получает все большее распространение в российских и в западных исследованиях. Алейда Ассман в работе «Новое недовольство мемориальной культурой» отмечает:
“
«Индивидуальная память помещена в более широкие рамки культурной памяти, что создает предпосылки для формирования коллективной идентичности, устанавливающей связь между прошлым, настоящим и будущим. Посредством памяти нация удостоверяется в собственной истории» [2] (курсив мой. - Ф.Н.).
Еще одним общим трендом в рамках «третьей волны» memory studies становится кризис нейтральной академической экспертизы, апеллирующей к авторитету структуралистских теорий 1970-1980-х годов [3], и рост социально-политической ангажированности исследователей, активно участвующих в обсуждении актуальной государственной политики и политики идентичности [4]. Соотношение этих двух политик редко становится объектом самостоятельного анализа и обозначается лишь в общих чертах:
“
«"Общепринятые" представления о прошлом являются одной из главных опор идентичности современных политических сообществ. [...] Прошлое служит "строительным материалом" для конструирования разных типов социальных идентичностей, однако особое значение оно имеет для воображения наций» [5].
В отличие от политики памяти, которая рассматривается в memory studies как осознанная борьба различных акторов за гегемонию, политикам идентичности приписываются более имплицитный характер и более партикулярный интерес. Их анализ чаще всего переплетается с дискуссиями о правом популизме, набирающем сегодня обороты в США, России, Турции, Венгрии и других странах.
Такое понимание политики идентичности оказывается тесно взаимосвязано с растущей критикой конструктивистского подхода в социальных исследованиях со стороны либеральной политической философии. С точки зрения последней, главными носителями политической культуры и идентичности выступают существующие академические и социальные институты. Как считает Фрэнсис Фукуяма, именно левые политики идентичности, критикующие недостатки существующих институтов, привели к росту правого популизма, питающегося рессентиментом и эксплуатацией «тимотического» [6] начала психики:
Такое понимание политики идентичности оказывается тесно взаимосвязано с растущей критикой конструктивистского подхода в социальных исследованиях со стороны либеральной политической философии. С точки зрения последней, главными носителями политической культуры и идентичности выступают существующие академические и социальные институты. Как считает Фрэнсис Фукуяма, именно левые политики идентичности, критикующие недостатки существующих институтов, привели к росту правого популизма, питающегося рессентиментом и эксплуатацией «тимотического» [6] начала психики:
“
«Политика идентичности в понимании левых легитимирует, как правило, только некоторые идентичности, игнорируя или принижая другие, - такие, как европейская (то есть белая) этническая принадлежность, христианская религиозность, "сельская провинциальность", вера в традиционные семейные ценности и другие, связанные с этими, категории» [7].
С точки зрения Фукуямы, левые политики идентичности опираются на «терапевтический поворот в популярной культуре» и способствуют трансформации социальных программ 1960-1970-х годов. Сегодня эти программы позволяют своим гражданам и приехавшим в западные страны мигрантам пестовать свои культурные различия и блокируют интеграцию в существующее демократическое общество. Экономическая рецессия, рост социального расслоения и распространение «нелиберальных демократий» в 2000-е лишь усиливают этот рессентимент, вызванный культурными войнами и активизацией политик идентичности. Альтернативой правому и левому популизму Фукуяма считает сохранение демократических институтов с поправкой на риторическое признание важности человеческого достоинства, а также умеренных форм национализма и религиозности. Задача «правильной», или «инклюзивной», национальной идентичности заключается в том, чтобы сделать возможной саму либеральную демократию. Формирование такой инклюзивной национальной идентичности Фукуяма описывает через понятие «доминирующих культур»:
“
«В начале 2000-х немецкий ученый сирийского происхождения Бассам Тиби предложил в качестве основы для немецкой национальной идентичности понятие Leitkultur - "доминирующая культура". Leitkultur определяется в либерально-просветительских терминах как вера в равенство и демократические ценности» [8].
Схожие аналитические выводы становятся все более распространенными в исследованиях наций и национализмов. Безусловно, в рамках этого безбрежного поля сложно выделить какую-то одну универсальную трактовку политик идентичности. Но в целом важно подчеркнуть растущую критику конструктивистских подходов 1980-1990-х за их невнимание к повседневным практикам и низовым формам артикуляции опыта в национальных, этнических, идентитарных формах. Так, в частности, Роджерс Брубейкер, подробно анализируя различные подходы к понятию идентичности и выступая за его контекстуальную замену смежными процессуальными понятиями (идентификация и категоризация, самопонимание и социальная локализация, общность и групповая сплоченность), в то же время отмечает:
“
«"Идентичность", следовательно, несет многозначную, даже противоречивую, теоретическую нагрузку. Действительно ли нам нужен этот перегруженный, глубоко двусмысленный термин? С большим перевесом побеждают ученые, полагающие, что он нам нужен» [9].
Признавая заслуги конструктивистской критики «эссенциализма», исследователь подчеркивает невозможность редуцировать преобладающее в пространстве повседневного опыта эмоциональное/аффективное восприятие идентичности («чувство сопринадлежности», «чувство самости», «аффективно окрашенное самопонимание») к рациональным конструкциям. Эссенциализм возвращается здесь не как дискредитированный теоретический конструкт, но как признание отличия того повседневного опыта, который артикулирует себя в национальных или идентитарных формах.
Собственно в cultural studies (или - в российской транскрипции - исследованиях культуры), которые часто рассматриваются как «теория идентичности и политики идентичности» [10], благодаря Стюарту Холлу и его сторонникам в 1980-1990-е годы сложилась критическая трактовка понятия идентичности, делающая акцент на культурной дифференциации. Комментируя еще в 1990-е «дискурсивный взрыв» вокруг идентичности, Холл подчеркивал принципиальное отличие двух ее интерпретаций:
Собственно в cultural studies (или - в российской транскрипции - исследованиях культуры), которые часто рассматриваются как «теория идентичности и политики идентичности» [10], благодаря Стюарту Холлу и его сторонникам в 1980-1990-е годы сложилась критическая трактовка понятия идентичности, делающая акцент на культурной дифференциации. Комментируя еще в 1990-е «дискурсивный взрыв» вокруг идентичности, Холл подчеркивал принципиальное отличие двух ее интерпретаций:
“
«Первая позиция рассматривает "культурную идентичность" как единую общую культуру - своего рода коллективное "подлинное Я", скрытое во множестве других, искусственно навязанных Я. С этой точки зрения, наши культурные идентичности выражают общий исторический опыт и сложившиеся культурные коды, которые делают нас "единым народом" с устойчивой системой референций и смыслов, несмотря на разногласия и превратности противоречивой истории. […] Однако есть и другая точка зрения на культурную идентичность. Она признает, что, кроме множества точек сходства, существуют глубокие разногласия и существенные различия, определяющие, "какие мы на самом деле" или "кем мы стали". Культурная идентичность в этом смысле - это всегда и "бытие", и "становление". Она столь же связана с будущим, как и с прошлым. […] Она не скреплена намертво эссенциалистским прошлым, но оказывается предметом продолжающейся "игры" истории, культуры и власти. Идентичности не просто укоренены в прошлом, которое ждет, пока его "откроют", а будучи однажды открыто, навеки определяет наше самоощущение - они становятся именами, которые мы примеряем в рамках различных нарративов о прошлом. Только с этой, второй, точки зрения мы можем понять травматический характер "колониального опыта"» [11].
Симпатии самого Холла были на стороне второго подхода. В его представлениях идентичность выстраивается в двух (в равной степени важных) измерениях: континуитета и различия (разрыва). Диалог или рассогласование этих измерений формируют спектр возможных конкретных самоидентификаций. При этом, говоря о различии, Холл следует за Жаком Деррида в его деконструкции эссенциалистских/примордиалистских концепций идентичности.
«Выше я попытался описать те концептуальные сдвиги, которые, по мнению ряда теоретиков, привели к тому, что "субъект" Просвещения, с устойчивой неизменной идентичностью, подвергся децентрации, превратившись в постмодернистского субъекта, с разомкнутыми, противоречивыми, незавершенными, фрагментированными идентичностями» [12].
В его трактовке «воображаемых сообществ» воображение и желание всегда носят первичный характер, а отношения власти лишь позднее используют их, настаивая на устойчивости и централизованном характере идентичностей.
Впрочем, концепция Стюарта Холла уже в 1990-е вызывала критику его коллег по cultural studies, которые предлагали при анализе идентичностей перенести внимание с дерридианской деконструкции на герменевтику субъективности Мишеля Фуко и его концепцию «технологий себя». Последние переносили акцент с желаний и воображения на режимы высказывания истины о себе и связку знания/власти:
«Выше я попытался описать те концептуальные сдвиги, которые, по мнению ряда теоретиков, привели к тому, что "субъект" Просвещения, с устойчивой неизменной идентичностью, подвергся децентрации, превратившись в постмодернистского субъекта, с разомкнутыми, противоречивыми, незавершенными, фрагментированными идентичностями» [12].
В его трактовке «воображаемых сообществ» воображение и желание всегда носят первичный характер, а отношения власти лишь позднее используют их, настаивая на устойчивости и централизованном характере идентичностей.
Впрочем, концепция Стюарта Холла уже в 1990-е вызывала критику его коллег по cultural studies, которые предлагали при анализе идентичностей перенести внимание с дерридианской деконструкции на герменевтику субъективности Мишеля Фуко и его концепцию «технологий себя». Последние переносили акцент с желаний и воображения на режимы высказывания истины о себе и связку знания/власти:
“
«Когда я начал изучать правила, обязанности и запреты в области сексуальности, притеснения и ограничения, связанные с ней, меня интересовали не просто акты, которые разрешались и запрещались, но чувства, которые выражались, мысли, желания, которые могли возникать, стремление отслеживать внутри себя любые тайные влечения, любые движения души, любые желания, скрывающиеся за иллюзорными формами. Существует одно весьма важное различие между запретами, касающимися сексуальности, и другими формами запрета. В отличие от иных запретов, сексуальные постоянно соотносятся с обязанностью высказывать истину о самом себе» [13].
С этой точки зрения, модерная форма субъективности функционирует, авторизуя опыт - придавая ему подлинность и личный характер, что и выливается в политику идентичности [14]. Вслед за Николасом Роузом важно отметить, что современный режим субъективации вырастает не из рационально осознанных концепций идентичности, но из повседневных полуосознанных практик социального взаимодействия, эстетического производства и потребления. Соотношение этих практик всегда оказывается контингентным . То есть идентичность выступает скорее регулятивным идеалом, а политики идентичности становятся движением к этому идеалу.
Такая трактовка идентичностей возобладала в 2000-е годы в cultural studies и в косвенной форме повлияла на трансформацию исследований памяти, истории эмоций и дискуссий о национализме. При этом проблематика наций стала рассматриваться в неразрывной взаимосвязи с политикой памяти и идентичности, но не в конструктивистском или примордиалистском ключе, а как возвращение полуосознанных ощущений «энтузиазма», чувства рессентимента и повседневного жизненного опыта, которые становятся основой отрефлексированной солидарности. Как отмечает левый теоретик Шанталь Муфф, политики идентичности, как и национальные «воображаемые сообщества», оспаривают сегодня неолиберальный консенсус и опираются на энтузиазм - готовность людей отождествлять себя с политической общностью. При этом идентичность не исключает различий: «Отношения эквивалентности не предполагают схлопывания всех различий в идентичности - эти различия по-прежнему активны» [16].
Именно в этом контексте любопытна опубликованная выше статья Мэри Моран, которая (вообще не упоминая Стюарта Холла) считает политики идентичностей по-прежнему важной и перспективной формой политической борьбы. С этой точки зрения, хотя политики идентичности сегодня все активнее используются противниками левых - правыми популистами и умеренными либералами, - у них все еще есть ресурс, который можно и нужно использовать. Признавая успехи общества потребления в эксплуатации «идентификационной» машины в сфере габитусов, досуга и повседневных практик, Моран приписывает неолибералам и правым популистам неотрефлексированное использование логики идентичности, тогда как левые, по ее мнению, пытаются перевести эти практики и эмоции в пространство осознанного обсуждения и рационализировать политический выбор.
Также важные отличия между правым популизмом 2010-х и левыми политиками идентичности 1960-1970-х прослеживают Айхан Кая, Кьяра де Чезари и другие авторы сборника «Европейская память и популизм: репрезентации себя и другого». Прежде всего они обращают внимание на разнонаправленность их темпоральной политики: характерный для сторонников Дональда Трампа, Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана ностальгический акцент на прошлое («ретротопия» в терминологии Зигмунта Баумана) противопоставляется акценту левых на современных проблемах и озабоченности будущим. Темпоральная составляющая здесь оказывается неразрывно связана с политической: идеализация национальных проектов эпохи модерна и континуитета между настоящим и прошлым, стремление к консервации культурного наследия и сохранению исторической памяти служат исключению чужих, поддерживая отношения сложившейся культурной гегемонии.
Кроме того, важно подчеркнуть ту роль, которую сыграл неолибералильный аффективный менеджмент и эмоциональный капитализм (Ева Иллуз [17]) 2000-х в переходе от левых политик идентичности 1960-1970-х к правому популизму наших дней. Экономический кризис, поток мигрантов в Европу и США выступают в его рамках лишь внешними поводами для роста страхов и подогреваемых новыми медиа аффектов. В основе этих страхов лежит рост прекарности и неопределенности в современном мире, эксплуатируемых неолиберальной моделью управления рисками. Правый популизм делает лишь следующий шаг в рамках той же стратегии, но, в отличие от неолибералов, он выносит неустойчивость вовне и обвиняет в ней других. Лежащий в основе большинства мемориальных практик и способствующий формированию публики нового типа [18] аффект символически кодируется при этом как рессентимент. Риторика общего наследия и культурной памяти позволяет отделить весьма гетерогенных «нас» (включая низы и элиты) от «них», легитимировать культурное превосходство не столько на рациональном, сколько на эмоциональном уровне.
С этой точки зрения, риторика культурной памяти сегодня все чаще используется правыми и либералами как основа позднекапиталистической культурной гегемонии [19], а исходный перформативный потенциал memory studies при этом теряет силу и исчезает. Поэтому, по мнению Айхана Кая, Кьяры де Чезари и их коллег, канон исследований памяти надо подвергнуть существенной ревизии - перенести акцент с дискуссий вокруг национального наследия и мест памяти (Пьер Нора) на разрывы и лакуны, сопротивляющиеся символизации.
Такая трактовка идентичностей возобладала в 2000-е годы в cultural studies и в косвенной форме повлияла на трансформацию исследований памяти, истории эмоций и дискуссий о национализме. При этом проблематика наций стала рассматриваться в неразрывной взаимосвязи с политикой памяти и идентичности, но не в конструктивистском или примордиалистском ключе, а как возвращение полуосознанных ощущений «энтузиазма», чувства рессентимента и повседневного жизненного опыта, которые становятся основой отрефлексированной солидарности. Как отмечает левый теоретик Шанталь Муфф, политики идентичности, как и национальные «воображаемые сообщества», оспаривают сегодня неолиберальный консенсус и опираются на энтузиазм - готовность людей отождествлять себя с политической общностью. При этом идентичность не исключает различий: «Отношения эквивалентности не предполагают схлопывания всех различий в идентичности - эти различия по-прежнему активны» [16].
Именно в этом контексте любопытна опубликованная выше статья Мэри Моран, которая (вообще не упоминая Стюарта Холла) считает политики идентичностей по-прежнему важной и перспективной формой политической борьбы. С этой точки зрения, хотя политики идентичности сегодня все активнее используются противниками левых - правыми популистами и умеренными либералами, - у них все еще есть ресурс, который можно и нужно использовать. Признавая успехи общества потребления в эксплуатации «идентификационной» машины в сфере габитусов, досуга и повседневных практик, Моран приписывает неолибералам и правым популистам неотрефлексированное использование логики идентичности, тогда как левые, по ее мнению, пытаются перевести эти практики и эмоции в пространство осознанного обсуждения и рационализировать политический выбор.
Также важные отличия между правым популизмом 2010-х и левыми политиками идентичности 1960-1970-х прослеживают Айхан Кая, Кьяра де Чезари и другие авторы сборника «Европейская память и популизм: репрезентации себя и другого». Прежде всего они обращают внимание на разнонаправленность их темпоральной политики: характерный для сторонников Дональда Трампа, Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана ностальгический акцент на прошлое («ретротопия» в терминологии Зигмунта Баумана) противопоставляется акценту левых на современных проблемах и озабоченности будущим. Темпоральная составляющая здесь оказывается неразрывно связана с политической: идеализация национальных проектов эпохи модерна и континуитета между настоящим и прошлым, стремление к консервации культурного наследия и сохранению исторической памяти служат исключению чужих, поддерживая отношения сложившейся культурной гегемонии.
Кроме того, важно подчеркнуть ту роль, которую сыграл неолибералильный аффективный менеджмент и эмоциональный капитализм (Ева Иллуз [17]) 2000-х в переходе от левых политик идентичности 1960-1970-х к правому популизму наших дней. Экономический кризис, поток мигрантов в Европу и США выступают в его рамках лишь внешними поводами для роста страхов и подогреваемых новыми медиа аффектов. В основе этих страхов лежит рост прекарности и неопределенности в современном мире, эксплуатируемых неолиберальной моделью управления рисками. Правый популизм делает лишь следующий шаг в рамках той же стратегии, но, в отличие от неолибералов, он выносит неустойчивость вовне и обвиняет в ней других. Лежащий в основе большинства мемориальных практик и способствующий формированию публики нового типа [18] аффект символически кодируется при этом как рессентимент. Риторика общего наследия и культурной памяти позволяет отделить весьма гетерогенных «нас» (включая низы и элиты) от «них», легитимировать культурное превосходство не столько на рациональном, сколько на эмоциональном уровне.
С этой точки зрения, риторика культурной памяти сегодня все чаще используется правыми и либералами как основа позднекапиталистической культурной гегемонии [19], а исходный перформативный потенциал memory studies при этом теряет силу и исчезает. Поэтому, по мнению Айхана Кая, Кьяры де Чезари и их коллег, канон исследований памяти надо подвергнуть существенной ревизии - перенести акцент с дискуссий вокруг национального наследия и мест памяти (Пьер Нора) на разрывы и лакуны, сопротивляющиеся символизации.
“
«Само развитие memory studies стало ответом на политику раскаяния - пролиферацию нарративов страдания, виктимизации, травм, обсуждение последствий войн в публичной сфере, а также работу комиссий правды, создание мемориалов и музеев, дней памяти - процессы, апеллирующие к травмам и стремящиеся к проработке травм прошлого, вызванных маргинализацией тех или иных социальных групп со стороны государства. [...] Память о трудном прошлом нужна, чтобы гарантировать невозможность его повторения» [20].
История эмоций, trauma studies и memory studies работают не просто с популярными темами для развлечения публики и (ре)конструкции национального нарратива, но, несмотря на заведомый скептицизм по отношению к такого рода деятельности, справедливо высказываемый постструктуралистской критикой, стремятся расширить и переопределить социальную солидарность. В итоге контекст и сам характер обращения к памяти о героическом/трудном прошлом оказывается принципиально разным для правого популизма и левых политик идентичности. Неизбежным следствием этого становятся и различия в трактовке понятия нации правыми и левыми популистами: в первом случае речь идет о мифологизации единства воображаемого сообщества, а во втором - о дифференциации пространства социальных отношений, практик и дискурсов.
Еще один аргумент в переосмыслении современных политик идентичности предлагает итальянский историк Энцо Траверсо. Исследователь доказывает, что «популизм» не очень удачный термин, стирающий важные исторические и политические различия, делающий акцент на внешнее сходство риторики и приемов мобилизации общественного мнения со стороны слишком разных движений: народничества в России и буланжизма во Франции XIX века, фашизма 1920-1930-х и широкого спектра левых популистских режимов в Латинской Америке, а также роста радикальных правых в 2010-е [21]. В основе современных дискуссий о популизме, по мнению Траверсо, лежит деполитизация. Правые популисты оправдывают свою агрессивную внешнюю политику, поддержку старых элит и новую специфическую биополитику риторикой сохранения национальной идентичности. А неолибералы говорят о демократии и экономической стабильности, используя дискурс культурной идентичности для легитимации правления внепартийных меритократов. С этой точки зрения, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон играют на одном поле, не столько предлагая самостоятельные программы действий, сколько критикуя недостатки своих оппонентов. Попытка выбрать меньшее зло и сохранить идентичность ведет к росту их электората. Обоих кандидатов более чем устраивает исчезновение левой альтернативы на политической сцене.
Траверсо напоминает, что такого расклада политических сил в Европе не было с 1930-х. Сравнения современных правых популистов с фашизмом (или постфашизмом) - их общее стремление к харизматическому лидерству, усилению исполнительной власти в ущерб законодательной и склонность к этнической гомогенизации населения - кажутся несколько натянутыми и не выдерживают историографической критики. Однако Траверсо совершенно справедливо настаивает на важности реактивации памяти об антифашизме - масштабной деятельности широкого спектра низовых движений в Испании, Италии, СССР, США, Франции и других странах в 1930-1940-е. Память о Холокосте как страданиях лишь одного народа - или героизация жертв лишь одного государства (СССР) - вытесняют память об интернациональном антифашизме и во многом подталкивают к его забвению. В этом контексте ревизия проблематики идентичности и памяти о ключевых событиях ХХ века предполагает для левых не только отказ от иерархии классовых отношений, подчиняющих остальные идентичности и нивелирующих локальные различия, но и поиск новых коалиций с политическими акторами и сообществами разных типов.
Как справедливо отмечает Илья Будрайтскис, «проблема идентичности, начавшись как борьба за признание, трансформировалась в радикальное не-признание и превратилась в господствующую форму конформизма, примирения с данностью» [22]. В этом высказывании важно не столько указание на деградацию политик идентичности (далее в статье автор уточняет свою позицию), сколько проблематизация функций memory studies и риторики идентичности в современном мире. Если гуманитарные исследования по-прежнему стремятся не только описывать мир, но и участвовать в его изменении, то необходимо переосмыслить и свой дисциплинарный статус, и стратегии взаимодействия с повседневными попкультурными практиками, а также связанными с ними эмоциями и габитусами. Противопоставлять разум и эмоции, идеализировать Просвещение как альтернативу правому популизму сегодня вряд ли продуктивно. Стремление к максимально четкой дифференциации и корректной работе с понятиями по-прежнему актуально на уровне теории. Но вопросы взаимодействия с популярной культурой не могут рассматриваться сегодня как популяризация академического знания «сверху вниз».
Таким образом, если либеральная критика правого популизма носит нейтральный характер и готова к компромиссу по вопросу о сохранении status quo и поддержания культурного канона памяти, то значительная часть левых сторонников memory studies выступает за отказ от ностальгической централизации нарративов героического прошлого и за поиск новых форм работы с практиками коммеморации. При этом метафорика памяти и идентичности не обязательно должны служить воспроизводству терапевтической культуры, активно критикуемой и в то же время используемой неолибералами для косметического подновления фасада социального благополучия, - они могут выступать поводом для обсуждения проектов лучшего будущего и ревизии темпоральных границ между прошлым и настоящим.
джерело: Журнальный клуб Интелрос "Неприкосновенный запас" №135, 2021
Еще один аргумент в переосмыслении современных политик идентичности предлагает итальянский историк Энцо Траверсо. Исследователь доказывает, что «популизм» не очень удачный термин, стирающий важные исторические и политические различия, делающий акцент на внешнее сходство риторики и приемов мобилизации общественного мнения со стороны слишком разных движений: народничества в России и буланжизма во Франции XIX века, фашизма 1920-1930-х и широкого спектра левых популистских режимов в Латинской Америке, а также роста радикальных правых в 2010-е [21]. В основе современных дискуссий о популизме, по мнению Траверсо, лежит деполитизация. Правые популисты оправдывают свою агрессивную внешнюю политику, поддержку старых элит и новую специфическую биополитику риторикой сохранения национальной идентичности. А неолибералы говорят о демократии и экономической стабильности, используя дискурс культурной идентичности для легитимации правления внепартийных меритократов. С этой точки зрения, Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон играют на одном поле, не столько предлагая самостоятельные программы действий, сколько критикуя недостатки своих оппонентов. Попытка выбрать меньшее зло и сохранить идентичность ведет к росту их электората. Обоих кандидатов более чем устраивает исчезновение левой альтернативы на политической сцене.
Траверсо напоминает, что такого расклада политических сил в Европе не было с 1930-х. Сравнения современных правых популистов с фашизмом (или постфашизмом) - их общее стремление к харизматическому лидерству, усилению исполнительной власти в ущерб законодательной и склонность к этнической гомогенизации населения - кажутся несколько натянутыми и не выдерживают историографической критики. Однако Траверсо совершенно справедливо настаивает на важности реактивации памяти об антифашизме - масштабной деятельности широкого спектра низовых движений в Испании, Италии, СССР, США, Франции и других странах в 1930-1940-е. Память о Холокосте как страданиях лишь одного народа - или героизация жертв лишь одного государства (СССР) - вытесняют память об интернациональном антифашизме и во многом подталкивают к его забвению. В этом контексте ревизия проблематики идентичности и памяти о ключевых событиях ХХ века предполагает для левых не только отказ от иерархии классовых отношений, подчиняющих остальные идентичности и нивелирующих локальные различия, но и поиск новых коалиций с политическими акторами и сообществами разных типов.
Как справедливо отмечает Илья Будрайтскис, «проблема идентичности, начавшись как борьба за признание, трансформировалась в радикальное не-признание и превратилась в господствующую форму конформизма, примирения с данностью» [22]. В этом высказывании важно не столько указание на деградацию политик идентичности (далее в статье автор уточняет свою позицию), сколько проблематизация функций memory studies и риторики идентичности в современном мире. Если гуманитарные исследования по-прежнему стремятся не только описывать мир, но и участвовать в его изменении, то необходимо переосмыслить и свой дисциплинарный статус, и стратегии взаимодействия с повседневными попкультурными практиками, а также связанными с ними эмоциями и габитусами. Противопоставлять разум и эмоции, идеализировать Просвещение как альтернативу правому популизму сегодня вряд ли продуктивно. Стремление к максимально четкой дифференциации и корректной работе с понятиями по-прежнему актуально на уровне теории. Но вопросы взаимодействия с популярной культурой не могут рассматриваться сегодня как популяризация академического знания «сверху вниз».
Таким образом, если либеральная критика правого популизма носит нейтральный характер и готова к компромиссу по вопросу о сохранении status quo и поддержания культурного канона памяти, то значительная часть левых сторонников memory studies выступает за отказ от ностальгической централизации нарративов героического прошлого и за поиск новых форм работы с практиками коммеморации. При этом метафорика памяти и идентичности не обязательно должны служить воспроизводству терапевтической культуры, активно критикуемой и в то же время используемой неолибералами для косметического подновления фасада социального благополучия, - они могут выступать поводом для обсуждения проектов лучшего будущего и ревизии темпоральных границ между прошлым и настоящим.
джерело: Журнальный клуб Интелрос "Неприкосновенный запас" №135, 2021
~
[1] Рашковский Е.Б. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн… // Вопросы философии. 2011. № 6. С. 33. Еще в середине 1970-х Уильям Маккензи и Роберт Коулс отмечали, что понятие идентичности и кризиса идентичности превратились в клише. «Кризис "идентичности" - кризис перепроизводства и последующей девальвации смысла - не обнаруживает признаков завершенности», - отмечает по этому поводу Роджерс Брубейкер (Брубейкер Р. Этничность без групп. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. С. 66-67).
[2] Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 29.
[3] Прошлое для настоящего: история-память и нарративы национальной идентичности / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2020; Савельева И.М. Историческая наука в XXI веке: ключевые слова // Диалог со временем. 2017. № 58. С. 5-24 и др.
[4] Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, институты, нарративы / Под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020.
[5] Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политики идентичности // Дискурсология: методология, теория, практика. 2016. № 10. С. 159; также см.: Она же. Политика идентичности как борьба за смыслы: проблемы концептуализации // Символическая политика. Вып. 5: Политика идентичности / Под ред. О.Ю. Малиновой. М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 8; Она же. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м гг. // Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 139-158.
[6] Тимос - это та часть души, которая страстно жаждет признания и уважения человеческого достоинства. [...] Яростный дух, несводимый к вожделеющему началу, - "третья часть души" после вожделения и рацио» (Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. М.: Альпина Паблишер, 2019. С. 20, 43).
[7] Там же. С. 154.
[8] Брубейкер Р. Указ. соч. С. 79.
[9] Брубейкер Р. Указ. соч. С. 79.
[10] Grossberg L. Identity and Cultural Studies: Is That All There Is? // Hall S., Gay P. du (Eds.). Questions of Cultural Identity. London: SAGE Publications, 1996. Р. 87.
[11] Hall S. Cultural Identity and Diaspora // Rutherford J. (Ed.). Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart, 1990. P. 223-225.
[12] Холл С. Вопрос культурной идентичности // Художественный журнал. 2010. № 77-78 (http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/).
[13] Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2. С. 98.
[14] Grossberg L. Op. cit. Р. 87-107.
[15] Rose N. Identity, Genealogy, History // Hall S., Gay P. du (Eds.). Op. cit. Р. 128-150.
[16] Mouffe Ch. For a Left Populism. London: Verso, 2018. P. 68.
[17] Illouz E. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge: Polity, 2007.
[18] Hemel E. Social Media and Affective Publics: Populist Passion for Religious Roots // Cesari C. de, Kaya A. (Eds.). European Memory in Populism: Representations of Self and Other. New York: Routledge, 2020. P. 153-172.
[19] Wodak R. Contesting Hegemonic Memories // Cesari C. de, Kaya A. (Eds.). Op. cit. P. 276-293.
[20] Cesari C. de, Kaya A. Introduction // Ibid. P. 3.
[21] Traverso E. The New Faces of Fascism. Populism and the Far Right. London; New York: Verso, 2019. Р. 16.
[22] Будрайтскис И. В защиту идентичности // Художественный журнал. 2020. № 115. С. 7.
[2] Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 29.
[3] Прошлое для настоящего: история-память и нарративы национальной идентичности / Под ред. Л.П. Репиной. М.: Аквилон, 2020; Савельева И.М. Историческая наука в XXI веке: ключевые слова // Диалог со временем. 2017. № 58. С. 5-24 и др.
[4] Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акторы, институты, нарративы / Под ред. А.И. Миллера, Д.В. Ефременко. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020.
[5] Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политики идентичности // Дискурсология: методология, теория, практика. 2016. № 10. С. 159; также см.: Она же. Политика идентичности как борьба за смыслы: проблемы концептуализации // Символическая политика. Вып. 5: Политика идентичности / Под ред. О.Ю. Малиновой. М.: ИНИОН РАН, 2017. С. 8; Она же. Официальный исторический нарратив как элемент политики идентичности в России: от 1990-х к 2010-м гг. // Полис. Политические исследования. 2016. № 6. С. 139-158.
[6] Тимос - это та часть души, которая страстно жаждет признания и уважения человеческого достоинства. [...] Яростный дух, несводимый к вожделеющему началу, - "третья часть души" после вожделения и рацио» (Фукуяма Ф. Идентичность: стремление к признанию и политика неприятия. М.: Альпина Паблишер, 2019. С. 20, 43).
[7] Там же. С. 154.
[8] Брубейкер Р. Указ. соч. С. 79.
[9] Брубейкер Р. Указ. соч. С. 79.
[10] Grossberg L. Identity and Cultural Studies: Is That All There Is? // Hall S., Gay P. du (Eds.). Questions of Cultural Identity. London: SAGE Publications, 1996. Р. 87.
[11] Hall S. Cultural Identity and Diaspora // Rutherford J. (Ed.). Identity: Community, Culture, Difference. London: Lawrence & Wishart, 1990. P. 223-225.
[12] Холл С. Вопрос культурной идентичности // Художественный журнал. 2010. № 77-78 (http://xz.gif.ru/numbers/77-78/hall/).
[13] Фуко М. Технологии себя // Логос. 2008. № 2. С. 98.
[14] Grossberg L. Op. cit. Р. 87-107.
[15] Rose N. Identity, Genealogy, History // Hall S., Gay P. du (Eds.). Op. cit. Р. 128-150.
[16] Mouffe Ch. For a Left Populism. London: Verso, 2018. P. 68.
[17] Illouz E. Cold Intimacies: The Making of Emotional Capitalism. Cambridge: Polity, 2007.
[18] Hemel E. Social Media and Affective Publics: Populist Passion for Religious Roots // Cesari C. de, Kaya A. (Eds.). European Memory in Populism: Representations of Self and Other. New York: Routledge, 2020. P. 153-172.
[19] Wodak R. Contesting Hegemonic Memories // Cesari C. de, Kaya A. (Eds.). Op. cit. P. 276-293.
[20] Cesari C. de, Kaya A. Introduction // Ibid. P. 3.
[21] Traverso E. The New Faces of Fascism. Populism and the Far Right. London; New York: Verso, 2019. Р. 16.
[22] Будрайтскис И. В защиту идентичности // Художественный журнал. 2020. № 115. С. 7.
К теме: