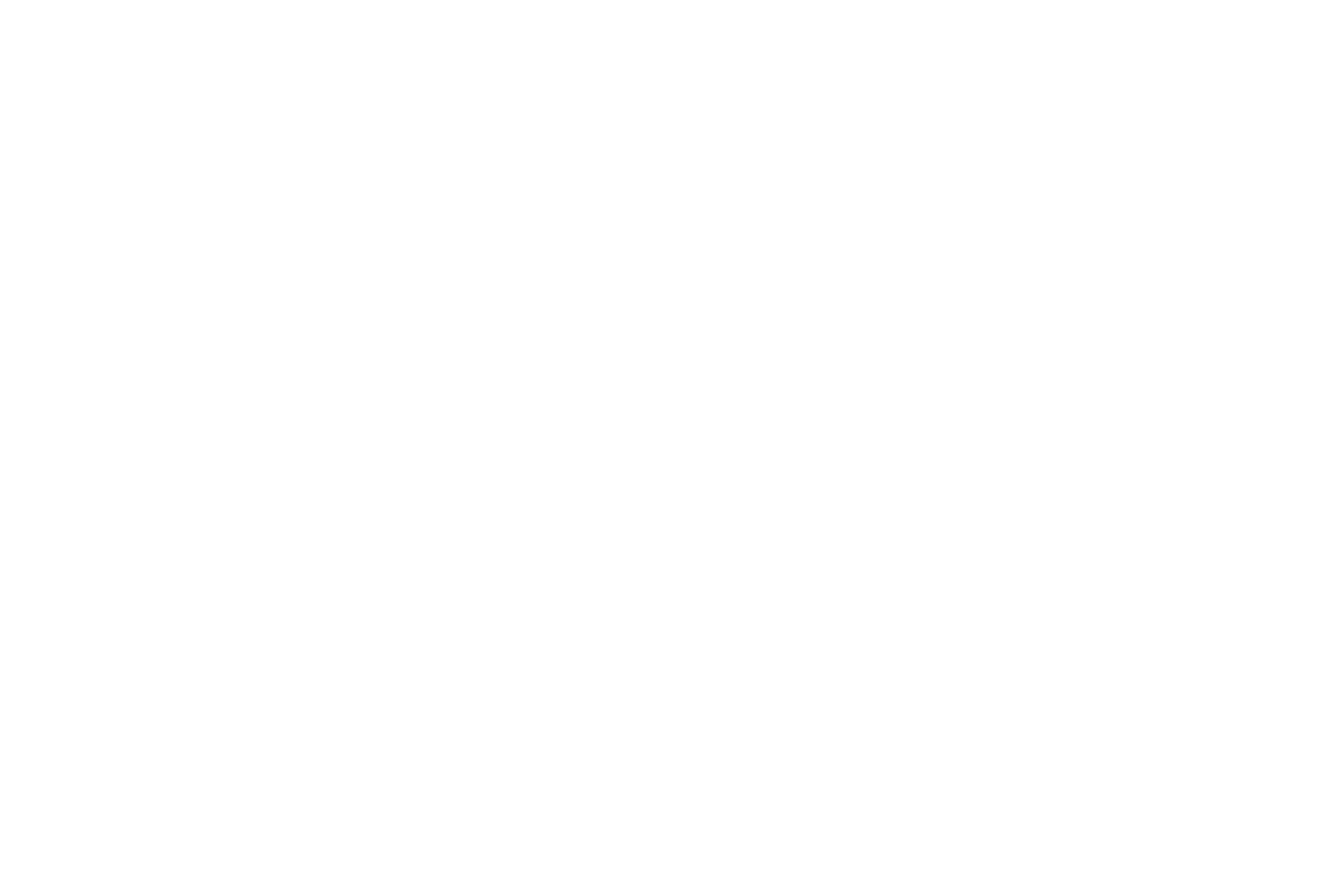© 2019 Strategic Group.Media
Коммунизм или неофеодализм?
В своей статье Джоди Дин высказывает гипотезу о том, что мы присутствуем при перерождении капиталистической исторической формации в нечто новое, что можно предварительно назвать неофеодализмом. Капитализм перестает валоризоваться, то есть воспроизводить свои общественные условия, и порождает некие новые условия, в меньшей степени направленные на организацию коллективного труда и в большей — на принуждение и прямое доминирование. Происходит «рефлексивизация» капитализма в его отношениях господства, и последние становятся более эксплицитными.
Дин указывает на четыре основных направления неофеодализации: парцелляцию (то есть фрагментацию с одновременным усилением) суверенитета, новую квазисословную иерархию (экспоненциальный рост неравенства), географическую поляризацию между мегаполисом и глубинкой, или хинтерландом (не только по оси Север–Юг, но между центрами и небольшими городами внутри развитых стран), апокалиптическое воображаемое (от которого люди спасаются наркотиками). Все эти тенденции обнаруживают сходные черты в европейском Средневековье, но сегодня принимают совершенно иные общественные и технологические формы. Так, коммуникативный капитализм превращает граждан в тотально зависимых от платформ, в рамках которых они являются не свободными тружениками, а пассивными источниками данных. Если эта гипотеза верна, то паллиативные средства борьбы с несправедливостью, такие как демократия и свободные выборы, больше не будут работать. Автор формулирует альтернативу «коммунизм или феодализм» и утверждает, что в неофеодальной ситуации борьба за коммунизм в известной степени облегчается, так как и угнетение, и наличие предпосылок для коммунизма становятся более очевидными.
Дин указывает на четыре основных направления неофеодализации: парцелляцию (то есть фрагментацию с одновременным усилением) суверенитета, новую квазисословную иерархию (экспоненциальный рост неравенства), географическую поляризацию между мегаполисом и глубинкой, или хинтерландом (не только по оси Север–Юг, но между центрами и небольшими городами внутри развитых стран), апокалиптическое воображаемое (от которого люди спасаются наркотиками). Все эти тенденции обнаруживают сходные черты в европейском Средневековье, но сегодня принимают совершенно иные общественные и технологические формы. Так, коммуникативный капитализм превращает граждан в тотально зависимых от платформ, в рамках которых они являются не свободными тружениками, а пассивными источниками данных. Если эта гипотеза верна, то паллиативные средства борьбы с несправедливостью, такие как демократия и свободные выборы, больше не будут работать. Автор формулирует альтернативу «коммунизм или феодализм» и утверждает, что в неофеодальной ситуации борьба за коммунизм в известной степени облегчается, так как и угнетение, и наличие предпосылок для коммунизма становятся более очевидными.
«Валоризация» — перевод Марксова термина Verwertung — одно из центральных понятий экономической теории Антонио Негри, разработанной им в книге: Negri A. Marx Beyond Marx. N.Y.: Autonomedia, 1991 [1984]. Оно означает воспроизводство капиталом всего социального аппарата, позволяющего извлекать и накапливать стоимость. — Прим. пер.
В своей новой книге «Капитал мертв» Маккензи Уорк ставит провокационный мысленный эксперимент: что, если на дворе уже не капитализм, а нечто худшее? Я не буду однозначно отвечать «да» или «нет» на вопрос Уорк, но представлю анализ текущего момента: какие тенденции ведут нас от капитализма к чему-то более страшному? В поддержку своего тезиса я хочу обратиться к знаменитой формуле Розы Люксембург: «социализм или варварство?». Моя ставка состоит в том, что сегодня мы должны выбирать между коммунизмом и неофеодализмом. Капитализм потенциально стремится к неофеодализму. Наша задача в том, чтобы преодолеть капитализм и перейти к коммунизму. Таким образом, преимущество обращения к Люксембург заключается в политическом характере ее формулы. Тенденции не полностью детерминируют ситуацию, но оставляют пространство для политического действия и потребность в нем. Мы сами являемся частью этой ситуации, сами изображены на фотографии, которую снимаем. Капитализм превращается в нечто еще худшее. И все-таки мы можем вмешаться и предотвратить это.
Под «капитализмом» я подразумеваю систему, в которой частная собственность, наемный труд и товарное производство лежат в основе валоризации, или наращивания основного капитала. Для собственного воспроизводства и легитимации капиталистическая система нуждается в специфической государственной форме, буржуазном правовом государстве, претендующем на справедливость и нейтральность. Современный коммуникативный капитализм — это система, стремящаяся к неофеодализму, по мере того как ее собственные процессы становятся более интенсивными и обращаются против самих себя.
«Коммунизм» для меня не означает некоего конца политики в гармоничной и лишенной противоречий тотальности. Психоанализ утверждает, что антагонизм неизбежен, учредителен для субъекта и общества. Коммунизм — это не рай на земле, но политическая форма, в которой на место производства в интересах накопления капитала меньшинством приходит производство для удовлетворения потребностей большинства, форма коллективной самоэмансипации пролетаризованных масс (Маркс выдвигает этот тезис в части, посвященной Парижской коммуне, в «Гражданской войне во Франции»).
Повторюсь, я принимаю брошенный Уорк провокационный вызов: что, если мы имеем дело уже не с капитализмом, а с чем-то худшим? В ответ я хочу очертить современные тенденции, которые указывают, что капитализм может превратиться в нечто худшее, в неофеодализм новых сеньоров и крепостных, микроэлиты платформенных миллиардеров и гигантского сектора услуг или сектора прислуги. Выделяя неофеодальные тенденции в ответ на вопрос Уорк, я исхожу из идеи Розы Люксембург о том, что капитализм всегда опирался и накладывался на другие способы производства и накопления и эксплуатировал их. Действительно, интегрируя некапиталистические отношения, капитализм делает их хуже, разрушая условия их существования и подчиняя чуждым законам.
Сегодня, по мере того как процессы реального подчинения (субсумпции) труда капиталу обращаются против самих себя, капитализм превращается в нечто худшее. Монопольная концентрация современного коммуникативного капитализма, стремительно растущее неравенство, подчинение государства рынку ведут к неофеодализму, где накопление осуществляется уже не только через производство товаров, но и посредством ренты, долга и власти. Например, на глобальном уровне в индустрии знаний и технологий доходы от ренты интеллектуальной собственности превышают доходы от производства продукции. В США доля финансовых услуг в ВВП превышает долю промышленных товаров. Все меньше капитала повторно вкладывается в производство, вместо этого он накапливается на счетах, растрачивается или перераспределяется в качестве ренты. А значит, стоимость все меньше участвует в создании новой стомости, в самовалоризации (Selbstverwertung). Процессы валоризации — наращивания основного капитала — вышли далеко за пределы фабрики, проникнув в сложные, спекулятивные, нестабильные сферы, в которых роль пристального надзора, принуждения и насилия все растет.
Коммуникативный капитализм находится на перепутье. Что дальше — коммунизм или неофеодализм? Коммунизм — это имя эмансипаторного и эгалитарного способа общественного объединения, стремление к которому требует от нас организации и участия в борьбе. Неофеодализмом именуется нечто худшее, к чему стремится и во что превращается капитализм. Неофеодализм — это то, что нас ждет, если мы не сумеем дать отпор.
Под «капитализмом» я подразумеваю систему, в которой частная собственность, наемный труд и товарное производство лежат в основе валоризации, или наращивания основного капитала. Для собственного воспроизводства и легитимации капиталистическая система нуждается в специфической государственной форме, буржуазном правовом государстве, претендующем на справедливость и нейтральность. Современный коммуникативный капитализм — это система, стремящаяся к неофеодализму, по мере того как ее собственные процессы становятся более интенсивными и обращаются против самих себя.
«Коммунизм» для меня не означает некоего конца политики в гармоничной и лишенной противоречий тотальности. Психоанализ утверждает, что антагонизм неизбежен, учредителен для субъекта и общества. Коммунизм — это не рай на земле, но политическая форма, в которой на место производства в интересах накопления капитала меньшинством приходит производство для удовлетворения потребностей большинства, форма коллективной самоэмансипации пролетаризованных масс (Маркс выдвигает этот тезис в части, посвященной Парижской коммуне, в «Гражданской войне во Франции»).
Повторюсь, я принимаю брошенный Уорк провокационный вызов: что, если мы имеем дело уже не с капитализмом, а с чем-то худшим? В ответ я хочу очертить современные тенденции, которые указывают, что капитализм может превратиться в нечто худшее, в неофеодализм новых сеньоров и крепостных, микроэлиты платформенных миллиардеров и гигантского сектора услуг или сектора прислуги. Выделяя неофеодальные тенденции в ответ на вопрос Уорк, я исхожу из идеи Розы Люксембург о том, что капитализм всегда опирался и накладывался на другие способы производства и накопления и эксплуатировал их. Действительно, интегрируя некапиталистические отношения, капитализм делает их хуже, разрушая условия их существования и подчиняя чуждым законам.
Сегодня, по мере того как процессы реального подчинения (субсумпции) труда капиталу обращаются против самих себя, капитализм превращается в нечто худшее. Монопольная концентрация современного коммуникативного капитализма, стремительно растущее неравенство, подчинение государства рынку ведут к неофеодализму, где накопление осуществляется уже не только через производство товаров, но и посредством ренты, долга и власти. Например, на глобальном уровне в индустрии знаний и технологий доходы от ренты интеллектуальной собственности превышают доходы от производства продукции. В США доля финансовых услуг в ВВП превышает долю промышленных товаров. Все меньше капитала повторно вкладывается в производство, вместо этого он накапливается на счетах, растрачивается или перераспределяется в качестве ренты. А значит, стоимость все меньше участвует в создании новой стомости, в самовалоризации (Selbstverwertung). Процессы валоризации — наращивания основного капитала — вышли далеко за пределы фабрики, проникнув в сложные, спекулятивные, нестабильные сферы, в которых роль пристального надзора, принуждения и насилия все растет.
Коммуникативный капитализм находится на перепутье. Что дальше — коммунизм или неофеодализм? Коммунизм — это имя эмансипаторного и эгалитарного способа общественного объединения, стремление к которому требует от нас организации и участия в борьбе. Неофеодализмом именуется нечто худшее, к чему стремится и во что превращается капитализм. Неофеодализм — это то, что нас ждет, если мы не сумеем дать отпор.
Четыре характеристики
Можно выделить четыре взаимодополняющие характеристики неофеодализма: 1) парцелляция суверенитета; 2) иерархия и экспроприация с участием новых сеньоров и крестьян; 3) заброшенная глубинка и привилегированные города; 4) чувство незащищенности и катастрофизм. Рассмотрим каждую из характеристик.
1. Парцелляция суверенитета
Историки-марксисты Перри Андерсон и Эллен Мейксинс Вуд видят в парцелляции суверенитета ключевую характеристику феодализма. Для понимания неофеодализма важны два аспекта парцелляции суверенитета: фрагментация и внеэкономическое принуждение. Во-первых, функции государства являются «вертикально и горизонтально фрагментированными». Поскольку различные политические и экономические игроки стремятся утвердить свое право и юрисдикцию, местные механизмы власти приобретают самые разнообразные формы. На место верховенства права приходят арбитраж и компромисс. Граница между законным и незаконным размывается.
Во-вторых, по мере парцелляции суверенитета сливаются политическая и экономическая власть. Сеньоры-феодалы извлекали стоимость из труда крестьян через правовое принуждение, которое было законным отчасти из-за того, что феодалы сами устанавливали законы в отношении подвластных им крестьян. Неофеодальные сеньоры, такие как финансовые институты или цифровые платформы, используют долг, чтобы перераспределять глобальное благосостояние от самых бедных к наиболее богатым. При неофеодализме, как и при феодализме, экономические игроки обладают политической властью над отдельной группой людей в силу установленных самими этими игроками условий. Вместе с тем политическая власть становится неотделимой от экономической власти и дополняет ее: кроме налогов, используются штрафы, залоги, изъятия активов, лицензии, патенты, право юрисдикции и пограничный контроль. При неофеодализме правовая фикция буржуазного государства, определяемая нейтральностью закона, действующего для свободных и равных индивидов, развеивается, а непосредственно политический характер общества вновь выходит на передний план.
Обратимся к современным примерам фрагментации и слияния государственной и экономической власти, характерным для парцелляции суверенитета. Десять процентов мирового богатства лежит на счетах в офшорах, чтобы владельцы могли избежать налогообложения, то есть уйти от законов государства. Закон не распространяется на миллиардеров, которые обладают достаточной властью, чтобы обойти его. Кроме того, рыночная стоимость наиболее крупных IT-компаний превышает объем экономики большинства стран мира. Города и государства взаимодействуют с Apple, Amazon, Microsoft, Facebook и Google/Alphabet так, будто бы эти компании сами были суверенными государствами. В переговорах с ними города стремятся предложить привлекательные условия сотрудничества и в результате принимают условия корпораций. Сконцентрированное в руках немногих огромное богатство обладает собственной учредительной властью, властью создавать собственные правила и отменять их. Более того, зарубежные инвесторы вправе подать в суд на правительства государств, обратившись в специальные международные трибуналы. Зачастую это происходит, когда законодательные нормы той или иной страны, созданные с целью защиты водных ресурсов, местного населения и окружающей среды, становятся препятствием для наращивания прибыли с инвестиций. Значительное число подобных исков было подано канадскими горнодобывающими компаниями против правительств Латинской Америки. Как утверждают Мануэль Перес-Роча и Дженнифер Мур,
Во-вторых, по мере парцелляции суверенитета сливаются политическая и экономическая власть. Сеньоры-феодалы извлекали стоимость из труда крестьян через правовое принуждение, которое было законным отчасти из-за того, что феодалы сами устанавливали законы в отношении подвластных им крестьян. Неофеодальные сеньоры, такие как финансовые институты или цифровые платформы, используют долг, чтобы перераспределять глобальное благосостояние от самых бедных к наиболее богатым. При неофеодализме, как и при феодализме, экономические игроки обладают политической властью над отдельной группой людей в силу установленных самими этими игроками условий. Вместе с тем политическая власть становится неотделимой от экономической власти и дополняет ее: кроме налогов, используются штрафы, залоги, изъятия активов, лицензии, патенты, право юрисдикции и пограничный контроль. При неофеодализме правовая фикция буржуазного государства, определяемая нейтральностью закона, действующего для свободных и равных индивидов, развеивается, а непосредственно политический характер общества вновь выходит на передний план.
Обратимся к современным примерам фрагментации и слияния государственной и экономической власти, характерным для парцелляции суверенитета. Десять процентов мирового богатства лежит на счетах в офшорах, чтобы владельцы могли избежать налогообложения, то есть уйти от законов государства. Закон не распространяется на миллиардеров, которые обладают достаточной властью, чтобы обойти его. Кроме того, рыночная стоимость наиболее крупных IT-компаний превышает объем экономики большинства стран мира. Города и государства взаимодействуют с Apple, Amazon, Microsoft, Facebook и Google/Alphabet так, будто бы эти компании сами были суверенными государствами. В переговорах с ними города стремятся предложить привлекательные условия сотрудничества и в результате принимают условия корпораций. Сконцентрированное в руках немногих огромное богатство обладает собственной учредительной властью, властью создавать собственные правила и отменять их. Более того, зарубежные инвесторы вправе подать в суд на правительства государств, обратившись в специальные международные трибуналы. Зачастую это происходит, когда законодательные нормы той или иной страны, созданные с целью защиты водных ресурсов, местного населения и окружающей среды, становятся препятствием для наращивания прибыли с инвестиций. Значительное число подобных исков было подано канадскими горнодобывающими компаниями против правительств Латинской Америки. Как утверждают Мануэль Перес-Роча и Дженнифер Мур,
“
...корпорации вправе подавать иски против национальных прави- тельств в частные трибуналы в обход государственных судов, на- пример в Международный центр по урегулированию инвести- ционных споров, аффилированный с Всемирным банком. Члены трибунала — это высокооплачиваемые корпоративные юристы, не связанные обязательством учитывать права местного населения или необходимостью защищать здоровье и окружающую среду.
На место национального права приходят частные трибуналы. Парцелляция и фрагментация суверенитета происходят и на национальном уровне. Палестина — яркий тому пример: израильтяне незаконно строят свои поселения на палестинской земле под защитой вооруженных сил Израиля. А вот пример из США: нуждающиеся в денежных средствах местные власти используют сложную систему штрафов, чтобы напрямую изымать деньги у населения, нанося удар прежде всего по самым бедным. В своей последней книге «Наказание без преступления» Александра Натапофф обрисовывает чудовищные масштабы применения закона о мелких правонарушениях (misdemeanor law) в и без того гигантской пенитенциарной системе США. Людей из наиболее бедных слоев населения, как правило, не с белым цветом кожи, задерживают по фиктивным обвинениям и заставляют признать свою вину, чтобы избежать тюремного заключения, которое может последовать, если обвинение будет оспорено. Помимо того что признание вины фиксируется в личном деле, обвиняемым также приходится выплачивать многочисленные штрафы, непогашение которых (например, из-за их величины) грозит новыми платежами и штрафами. Мы стали свидетелями того, как работает подобная система законного беззакония и несправедливого правосудия, во время протестов в Фергюсоне, штат Миссури, вызванных убийством Майкла Брауна: «Муниципальный суд города и его полицейский аппарат открыто вытягивали миллионы долларов из малоимущего чернокожего населения». Полиции было поручено «производить аресты и выдавать повестки с целью повышения бюджетных поступлений». Подобно ставленникам феодалов, городские власти используют силу для экспроприации стоимости у народа.
Приведу последний пример. Феодальная власть означает социальные отношения, основанные на присвоении излишков. Разве не то же свойство имеют наши отношения с владельцами медиа платформ коммуникативного капитализма? Новые феодалы присваивают прибавочную стоимость, создаваемую пользователями, — данные и метаданные, производимые нашими коммуникативными операциями. Для добычи «информационного» ресурса социальная субстанция апроприируется, хранится и разрабатывается с помощью объединенных в сеть личных средств связи. Общее становится частным, нас обкрадывают не просто с помощью пользовательских взносов, но через «обратную связь», данные и метаданные, которые производит подключенная к сети жизнь.
Приведу последний пример. Феодальная власть означает социальные отношения, основанные на присвоении излишков. Разве не то же свойство имеют наши отношения с владельцами медиа платформ коммуникативного капитализма? Новые феодалы присваивают прибавочную стоимость, создаваемую пользователями, — данные и метаданные, производимые нашими коммуникативными операциями. Для добычи «информационного» ресурса социальная субстанция апроприируется, хранится и разрабатывается с помощью объединенных в сеть личных средств связи. Общее становится частным, нас обкрадывают не просто с помощью пользовательских взносов, но через «обратную связь», данные и метаданные, которые производит подключенная к сети жизнь.
2. Иерархия и экспроприация, новые «крестьяне» и «сеньоры»
В самой своей основе феодальные отношения — это отношения неравенства. Мейксинс Вуд подчеркивает, что на Западе феодализм характеризовался прежде всего «эксплуатацией крестьян сеньорами в контексте парцелляризованного суверенитета». Андерсон напоминает нам, что эксплуататорские монополии, например водяные мельницы, находились под контролем феодалов. Крестьяне обязаны были молоть зерно на мельнице своего сеньора, притом что услуга была платной. Крестьяне не просто жили и трудились на не принадлежащей им земле, но вынуждены были подчиняться условиям, в которых феодал был, словами Маркса, «руководителем и властелином процесса производства, а следовательно, и всего общественного жизненного процесса».
Уже в 2010 году в своей знаменательной книге «Вы не гаджет» техногуру Джарон Ланир указал на появление крестьян и сеньоров интернета. Со стремительным ростом доходов и аппетитов гигантов IT-индустрии эта тема стала привлекать все большее внимание. Владельцы IT-компаний быстро превратились в миллиардеров благодаря дешевой рабочей силе, аутсорсингу значительной части задач внешним субподрядчикам, бесплатному труду пользователей, налоговым льготам, предоставляемым городами в тщетной надежде создать дополнительные рабочие места, а также благодаря укреплению своей монополии на рынке. Евгений Морозов отмечает, что рост техногигантов сопровождается феноменом феодализации. Он пишет:
Уже в 2010 году в своей знаменательной книге «Вы не гаджет» техногуру Джарон Ланир указал на появление крестьян и сеньоров интернета. Со стремительным ростом доходов и аппетитов гигантов IT-индустрии эта тема стала привлекать все большее внимание. Владельцы IT-компаний быстро превратились в миллиардеров благодаря дешевой рабочей силе, аутсорсингу значительной части задач внешним субподрядчикам, бесплатному труду пользователей, налоговым льготам, предоставляемым городами в тщетной надежде создать дополнительные рабочие места, а также благодаря укреплению своей монополии на рынке. Евгений Морозов отмечает, что рост техногигантов сопровождается феноменом феодализации. Он пишет:
“
Проблема (забудем на время о наболевшем вопросе защиты личных данных) в том, что эти компании практически не платят налогов. Страсть IT-гигантов к прорывным технологиям лишает смысла государственные программы модернизации, а щедрость этих компаний явно имеет границы. Более того, существует вероятность, что бесплатные сервисы приведут к возникновению гиперсовременной формы феодализма, при котором всем, кто пользуется интернет-инфраструктурой, придется платить — не бойтесь, это будет не сложнее, чем пополнить карточку на метро,—за доступ ко всему, у чего есть экран или кнопка.
Техногиганты из всего извлекают выгоду. Используя налоговые льготы, словно сбор дани, они отбирают деньги у местного населения. Присутствие этих компаний приводит к повышению стоимости аренды и цен на недвижимость, из-за чего снять квартиру по доступной цене становится невозможно, а малый бизнес и простые люди разоряются. Исследования Шошанны Зубофф, посвященные «надзорному капитализму» (surveillance capitalism), раскрывают еще один аспект технофеодализма — военную службу. Подобно феодалам в услужении у короля, фейсбук и гугл сотрудничают с могущественными государствами, предоставляя им информацию, которую те не могут получить самостоятельно, не нарушив закон. В целом эта хищническая сторона интернет- технологий приобретает сегодня все более всепроникающий, бесцеремонный и неизбежный характер.
И если неверно утверждать, что сегодня мы живем в эпоху феодалов и крестьян, то можно с полной уверенностью сказать, что современное капиталистическое общество характеризуется стремительно растущим неравенством. Все больше становится миллиардеров, увеличивается разрыв между бедными и богатыми, укрепляется система дифференцированного права. Защищая интересы корпораций и богачей, она ведет к разорению и даже грозит тюремным заключением выходцам из низших классов. В США экономическое неравенство поражает своими масштабами: экономическая мобильность в Америке ниже, чем в Англии, стране, где до сих пор существует земельная аристократия. «Платформизация» и приватизация земли — это тенденции, указывающие на возникновение иерархии и экспроприации, свойственных неофеодализму. Ник Срничек определяет платформы как «цифровые инфраструктуры, которые позволяют двум и более группам взаимодействовать». Позиционируя себя в качестве посредников, платформы создают площадки для деятельности пользователей, то есть условия для их взаимодействия. Google делает возможным поиск информации в невероятно насыщенной и постоянно изменяющейся информационной среде. Amazon позволяет нам с легкостью находить нужные товары, сравнивать цены и приобретать их как у популярных, так и у малоизвестных поставщиков. Uber помогает незнакомым друг с другом людям делить расходы на поездки. Airbnb предоставляет аналогичные услуги по съему апартаментов и коттеджей. Работа всех этих платформ становится возможной лишь благодаря производству и циркуляции огромного количества данных. Чем больше число пользователей, тем выше эффективность и производительность платформ. Их деятельность в конечном счете трансформирует среду, в которой они функционируют. Следовательно, как я подробнее покажу в части, посвященной сложным сетевым структурам, платформы стремятся к монополизации. Не стоит забывать и о том, что пользователи должны подчиняться правилам и распоряжениям владельцев платформ.
Срничек среди прочих рассматривает облачные и бережливые платформы. Широко известные сегодня «облака» (хотя куча пожирающих энергию серверов меньше всего похожа на «облачко») по запросу предоставляют вычислительные услуги, будь то для хранения данных, операционных систем или приложений. Компаниям не требуется покупать или иметь собственное ПО, они могут подписаться на него или арендовать по необходимости. Облачные платформы получают ренту и данные, позволяющие получать новую ренту. Бережливые платформы также являются рефлексивными, так как, не обладая собственностью, извлекают ренту благодаря подряду рабочей силы, которая сама заботится о своей работоспособности, профессиональной подготовке и технических средствах. Главные примеры таких платформ — Uber и Airbnb, которые превращают средства потребления в средства накопления. Ваша машина предназначена не для личного передвижения — она должна зарабатывать деньги. Ваша квартира — это не место проживания, а собственность, которую можно сдавать в аренду. В обоих случаях то, что считалось личной собственностью, превращается в инструмент для накопления капитала и данных феодалами платформ, владельцами Uber и Airbnb. Тенденцию к превращению работников в крестьян, то есть в тех, кто владеет средствами производства, но трудится на платформ- капиталиста, можно назвать неофеодальной.
Теперь к приватизации земли. За последние сорок лет в Великобритании более двух миллионов гектаров государственной земли (а это 10% всей земли Соединенного Королевства) было продано в частные руки. Согласно Бретту Кристоферсу, приватизация проходила сразу на нескольких уровнях, от местного до национального, по различным причинам и под покровительством различных институций, представляя собой «разрозненный и фрагментированный процесс». Кристоферс верно замечает, что Маркс видел в огораживании общественной собственности важнейшее условие капиталистического развития, поскольку огораживание сгоняло крестьян с земли и вынуждало их продавать собственную рабочую силу, чтобы выжить. Новый раунд приватизации характеризуется другими тенденциями, такими как «возрастающее накопление земель в частном секторе; превращение экономики Великобритании в экономику государства-рантье, то есть главную роль в ней приобретает рента, которую большинство платит богатому, владеющему землей меньшинству. Эти тенденции усиливают социальную напряженность».
В третьем томе «Капитала» Маркс подчеркивает, что «монополия земельной собственности является исторической предпосылкой и остается постоянной основой капиталистического способа производства». Вместе с тем, добавляет он, капитализм сам создает соответствующую ему форму собственности, равно как и собственные предпосылки, придавая новую форму существовавшим до него объектам и практикам. Uber превращает частные автомобили в средства накопления для находящихся за многие километры владельцев платформ. Современный процесс земельной приватизации, вместо того чтобы создавать основу для капиталистического развития, грозит превратить капитализм во что-то еще похуже — в неофеодализм, где миллиардеры покупают и монополизируют колоссальные площади земли.
Приватизация земли также указывает на то, что индивидуализация потребления сопровождается ростом неравенства, ведущим к возникновению новых сеньоров и крестьян. Не все потребители одинаковы. Некоторые из них — преданные клиенты, дающие клятву верности корпорации в обмен на баллы, скидки, льготы и другие виды вознаграждения за их службу в качестве потребителей. Сверхбогатые, превратившиеся в нечто вроде глобальной аристократии или мирового класса господ, надежно защищены от всех нас. Они состоят в закрытых клубах, летают на частных самолетах, а их дети ходят в частные школы. Что важнее, их богатство растет благодаря распространению механизмов прямой экспроприации, таких как комиссия за любые банковские услуги, незаконное огораживание и насильственное выселение, дробление услуг на отдельные платные компоненты, хищения при выплате заработной платы, которые часто и совершенно беспрепятственно происходят там, где работники не могут позволить себе услуги юриста. Финансовый сектор систематически ворует у бедных и раздает богатым. Ричард Вестра замечает:
И если неверно утверждать, что сегодня мы живем в эпоху феодалов и крестьян, то можно с полной уверенностью сказать, что современное капиталистическое общество характеризуется стремительно растущим неравенством. Все больше становится миллиардеров, увеличивается разрыв между бедными и богатыми, укрепляется система дифференцированного права. Защищая интересы корпораций и богачей, она ведет к разорению и даже грозит тюремным заключением выходцам из низших классов. В США экономическое неравенство поражает своими масштабами: экономическая мобильность в Америке ниже, чем в Англии, стране, где до сих пор существует земельная аристократия. «Платформизация» и приватизация земли — это тенденции, указывающие на возникновение иерархии и экспроприации, свойственных неофеодализму. Ник Срничек определяет платформы как «цифровые инфраструктуры, которые позволяют двум и более группам взаимодействовать». Позиционируя себя в качестве посредников, платформы создают площадки для деятельности пользователей, то есть условия для их взаимодействия. Google делает возможным поиск информации в невероятно насыщенной и постоянно изменяющейся информационной среде. Amazon позволяет нам с легкостью находить нужные товары, сравнивать цены и приобретать их как у популярных, так и у малоизвестных поставщиков. Uber помогает незнакомым друг с другом людям делить расходы на поездки. Airbnb предоставляет аналогичные услуги по съему апартаментов и коттеджей. Работа всех этих платформ становится возможной лишь благодаря производству и циркуляции огромного количества данных. Чем больше число пользователей, тем выше эффективность и производительность платформ. Их деятельность в конечном счете трансформирует среду, в которой они функционируют. Следовательно, как я подробнее покажу в части, посвященной сложным сетевым структурам, платформы стремятся к монополизации. Не стоит забывать и о том, что пользователи должны подчиняться правилам и распоряжениям владельцев платформ.
Срничек среди прочих рассматривает облачные и бережливые платформы. Широко известные сегодня «облака» (хотя куча пожирающих энергию серверов меньше всего похожа на «облачко») по запросу предоставляют вычислительные услуги, будь то для хранения данных, операционных систем или приложений. Компаниям не требуется покупать или иметь собственное ПО, они могут подписаться на него или арендовать по необходимости. Облачные платформы получают ренту и данные, позволяющие получать новую ренту. Бережливые платформы также являются рефлексивными, так как, не обладая собственностью, извлекают ренту благодаря подряду рабочей силы, которая сама заботится о своей работоспособности, профессиональной подготовке и технических средствах. Главные примеры таких платформ — Uber и Airbnb, которые превращают средства потребления в средства накопления. Ваша машина предназначена не для личного передвижения — она должна зарабатывать деньги. Ваша квартира — это не место проживания, а собственность, которую можно сдавать в аренду. В обоих случаях то, что считалось личной собственностью, превращается в инструмент для накопления капитала и данных феодалами платформ, владельцами Uber и Airbnb. Тенденцию к превращению работников в крестьян, то есть в тех, кто владеет средствами производства, но трудится на платформ- капиталиста, можно назвать неофеодальной.
Теперь к приватизации земли. За последние сорок лет в Великобритании более двух миллионов гектаров государственной земли (а это 10% всей земли Соединенного Королевства) было продано в частные руки. Согласно Бретту Кристоферсу, приватизация проходила сразу на нескольких уровнях, от местного до национального, по различным причинам и под покровительством различных институций, представляя собой «разрозненный и фрагментированный процесс». Кристоферс верно замечает, что Маркс видел в огораживании общественной собственности важнейшее условие капиталистического развития, поскольку огораживание сгоняло крестьян с земли и вынуждало их продавать собственную рабочую силу, чтобы выжить. Новый раунд приватизации характеризуется другими тенденциями, такими как «возрастающее накопление земель в частном секторе; превращение экономики Великобритании в экономику государства-рантье, то есть главную роль в ней приобретает рента, которую большинство платит богатому, владеющему землей меньшинству. Эти тенденции усиливают социальную напряженность».
В третьем томе «Капитала» Маркс подчеркивает, что «монополия земельной собственности является исторической предпосылкой и остается постоянной основой капиталистического способа производства». Вместе с тем, добавляет он, капитализм сам создает соответствующую ему форму собственности, равно как и собственные предпосылки, придавая новую форму существовавшим до него объектам и практикам. Uber превращает частные автомобили в средства накопления для находящихся за многие километры владельцев платформ. Современный процесс земельной приватизации, вместо того чтобы создавать основу для капиталистического развития, грозит превратить капитализм во что-то еще похуже — в неофеодализм, где миллиардеры покупают и монополизируют колоссальные площади земли.
Приватизация земли также указывает на то, что индивидуализация потребления сопровождается ростом неравенства, ведущим к возникновению новых сеньоров и крестьян. Не все потребители одинаковы. Некоторые из них — преданные клиенты, дающие клятву верности корпорации в обмен на баллы, скидки, льготы и другие виды вознаграждения за их службу в качестве потребителей. Сверхбогатые, превратившиеся в нечто вроде глобальной аристократии или мирового класса господ, надежно защищены от всех нас. Они состоят в закрытых клубах, летают на частных самолетах, а их дети ходят в частные школы. Что важнее, их богатство растет благодаря распространению механизмов прямой экспроприации, таких как комиссия за любые банковские услуги, незаконное огораживание и насильственное выселение, дробление услуг на отдельные платные компоненты, хищения при выплате заработной платы, которые часто и совершенно беспрепятственно происходят там, где работники не могут позволить себе услуги юриста. Финансовый сектор систематически ворует у бедных и раздает богатым. Ричард Вестра замечает:
“
«Большая часть мудреной структуры финансиализации с ее непрозрачными секьюритизированными инструментами построена на взрывном росте задолженности простого рабочего населения по ипотечным кредитам, кредитным картам, студенческим кредитам и т.д.»
Такая же структура действует в международном масштабе, при этом целые страны вынуждены урезать социальное обеспечение, не в силах противостоять могущественным кредиторам. Конечно, стоит еще раз упомянуть IT-индустрию, которая забирает наши данные — вне зависимости от того, открыты они для обмена или нет, — агрегирует, добывает и продает их на современном эквиваленте водяной мельницы. Мы не можем отказаться от телефонов и интернета, а значит, не можем избежать навязанной IT-компаниями экспроприации.
3. Город и глубинка
Третья характеристика неофеодализма связана с его пространственным измерением — сочетанием защищенных центров деловой жизни и окружающих их заброшенных пригородов. Пространственность неофеодализма можно также охарактеризовать в терминах разделения на город и деревню, городские и сельские территории, городские коммуны и провинцию или, более абстрактно, внутреннее, отгороженное стеной от внешнего. Граница пролегает между территориями безопасности и опасными районами, между зонами процветания и нужды. Мейксинс Вуд замечает, что средневековые города были, в сущности, олигархиями, где «господствующие классы обогащались за счет торговли и финансовых услуг, предоставляемых королям, императорам и церкви. Коллективно они осуществляли свое господство над окружающей их деревней... тем или иным способом обогащаясь за ее счет». Андерсон описывает феодальное разделение между городом и деревней как «динамическое противостояние» между товарным обменом и натуральным хозяйством. Коррелятом подобного разделения выступают гонимые невыносимыми условиями кочевники и мигранты, которые в поиске новых мест для жизни и работы неизбежно наталкиваются на неприступные стены. Страхи обретших защиту, но никогда не чувствующих себя в полной безопасности горожан рикошетом бьют по тем, кто и так находится на грани выживания.
В американской глубинке царят разруха и запустение, а ее обитатели еще предаются ностальгии по ушедшей эпохе капиталистического процветания, которая заронила в их сердца надежду, что они и их дети будут когда-то жить лучше. В книге On the Clock («Без перерыва») Эмили Гендельсбергер пишет: «Я повидала множество городков-призраков и заброшенных заводов в Кентукки, Индиане и Северной Каролине. Нельзя и двадцать минут проехать, не наткнувшись на них, — всюду разруха!» Лежащая на руинах промышленного капитала, эмигрировавшего в охоте за дешевой рабочей силой, американская глубинка легко может стать жертвой усиленной эксплуатации, которую несет с собой худший по сравнению с капитализмом уклад. Люди уже не производят товары, но борются за выживание: работают в колл-центрах и на складах, отовариваются в магазинах «Все за доллар» и питаются фастфудом.
Снедающее провинцию отчаяние политически проявляет себя в организованных ее жителями движениях. Иногда они направлены на защиту окружающей среды (против фрекинга и строения нефте-и газопроводов), иногда на защиту земельных прав (против приватизации и экспроприации), иногда против урезания социального сектора (закрытия больниц и школ). В США вопрос о праве иметь огнестрельное оружие политики используют, чтобы разжигать противостояние между городом и деревней. Сегодня мы также становимся свидетелями того, как раскол между городом и провинцией воспроизводится внутри самих городов. Эта тенденция проявляется как в запустении бедных районов, так и в их последующей захватнической джентрификации. Пока города богатеют, все больше людей становятся бездомными; Сан-Франциско, Сиэтл и Нью-Йорк — наглядные тому примеры.
Стоит отметить, что теория социального воспроизводства обретает первостепенное значение как ответ на вырождение или утрату любой способности к воспроизводству базовых условий сносной жизни. Утрата этой способности проявляется в растущем количестве суицидов, тревоге и наркомании, в снижении рождаемости, продолжительности жизни, а в США и в психотическом саморазрушении общества — в стрельбе в школах и публичных местах. Признаками вырождения служат разрушенная инфраструктура и непригодная для питья вода. Вырождение начертано на телах людей и на их земле. Больницы и школы закрываются, система социального обеспечения приходит в упадок, а жизнь становится все более безысходной и неопределенной. На последних забастовках американские учителя требовали не просто повышения зарплат, — что остается важным вопросом, — но лучших условий для своих учеников, для детей.
В своей последней книге Hinterland («Захолустье») Фил Нил указывает на тенденции, характерные для Китая, Египта, Украины и США. Во всех этих странах запустение охватывает целые города и регионы, а живущие в них люди стоят на пороге выживания. Описание нужды и социального расслоения на глобальной периферии, представленное Нилом, созвучно утверждениям ряда ученых-международников, сделанным тридцать лет назад. Уже в 1998 году Филипп Черни писал о «растущем отчуждении между глобальными центрами инноваций, коммуникаций и ресурсов (глобальными городами), с одной стороны, и обездоленной и фрагментированной провинцией — с другой». Черни уже тогда выражал опасения в связи с растущим неравенством и пауперизацией. Он отмечал, что по мере того, как огромные географические пространства лишаются доступа к инфраструктуре и обеспечению, «множество людей окажется „не у дел", превратится в „деревенщину", а некоторые даже объединятся в банды разбойников... будучи вынужденными либо просить милостыню в городах, либо грабить их, как в Средние века».
В американской глубинке царят разруха и запустение, а ее обитатели еще предаются ностальгии по ушедшей эпохе капиталистического процветания, которая заронила в их сердца надежду, что они и их дети будут когда-то жить лучше. В книге On the Clock («Без перерыва») Эмили Гендельсбергер пишет: «Я повидала множество городков-призраков и заброшенных заводов в Кентукки, Индиане и Северной Каролине. Нельзя и двадцать минут проехать, не наткнувшись на них, — всюду разруха!» Лежащая на руинах промышленного капитала, эмигрировавшего в охоте за дешевой рабочей силой, американская глубинка легко может стать жертвой усиленной эксплуатации, которую несет с собой худший по сравнению с капитализмом уклад. Люди уже не производят товары, но борются за выживание: работают в колл-центрах и на складах, отовариваются в магазинах «Все за доллар» и питаются фастфудом.
Снедающее провинцию отчаяние политически проявляет себя в организованных ее жителями движениях. Иногда они направлены на защиту окружающей среды (против фрекинга и строения нефте-и газопроводов), иногда на защиту земельных прав (против приватизации и экспроприации), иногда против урезания социального сектора (закрытия больниц и школ). В США вопрос о праве иметь огнестрельное оружие политики используют, чтобы разжигать противостояние между городом и деревней. Сегодня мы также становимся свидетелями того, как раскол между городом и провинцией воспроизводится внутри самих городов. Эта тенденция проявляется как в запустении бедных районов, так и в их последующей захватнической джентрификации. Пока города богатеют, все больше людей становятся бездомными; Сан-Франциско, Сиэтл и Нью-Йорк — наглядные тому примеры.
Стоит отметить, что теория социального воспроизводства обретает первостепенное значение как ответ на вырождение или утрату любой способности к воспроизводству базовых условий сносной жизни. Утрата этой способности проявляется в растущем количестве суицидов, тревоге и наркомании, в снижении рождаемости, продолжительности жизни, а в США и в психотическом саморазрушении общества — в стрельбе в школах и публичных местах. Признаками вырождения служат разрушенная инфраструктура и непригодная для питья вода. Вырождение начертано на телах людей и на их земле. Больницы и школы закрываются, система социального обеспечения приходит в упадок, а жизнь становится все более безысходной и неопределенной. На последних забастовках американские учителя требовали не просто повышения зарплат, — что остается важным вопросом, — но лучших условий для своих учеников, для детей.
В своей последней книге Hinterland («Захолустье») Фил Нил указывает на тенденции, характерные для Китая, Египта, Украины и США. Во всех этих странах запустение охватывает целые города и регионы, а живущие в них люди стоят на пороге выживания. Описание нужды и социального расслоения на глобальной периферии, представленное Нилом, созвучно утверждениям ряда ученых-международников, сделанным тридцать лет назад. Уже в 1998 году Филипп Черни писал о «растущем отчуждении между глобальными центрами инноваций, коммуникаций и ресурсов (глобальными городами), с одной стороны, и обездоленной и фрагментированной провинцией — с другой». Черни уже тогда выражал опасения в связи с растущим неравенством и пауперизацией. Он отмечал, что по мере того, как огромные географические пространства лишаются доступа к инфраструктуре и обеспечению, «множество людей окажется „не у дел", превратится в „деревенщину", а некоторые даже объединятся в банды разбойников... будучи вынужденными либо просить милостыню в городах, либо грабить их, как в Средние века».
4. Чувство незащищенности и апокалиптизм
Последняя, четвертая характеристика феодализма, необходимая для анализа неофеодальных тенденций современности, касается аффектов и субъективных переживаний, а именно чувства неза- щищенности, тревоги и приближающегося конца света. Эти аф- фективные ориентации объединяют и связывают три предыду- щие характеристики. Причин чувствовать себя в опасности сего- дня достаточно. Катастрофа капиталистической экспроприации социальных излишков на фоне вопиющего неравенства и глобаль- ного потепления вполне реальна.
Сегодня растет популярность непоследовательной, мистиче- ской идеологии неофеодализма, которая одновременно связывает различные аспекты апокалиптических сценариев и усиливает чув- ство надвигающейся катастрофы. Этой идеологии не чужды ок- культизм, техноязычество и антимодернизм28. Примерами могут служить как мистическое юнгианство Джордана Питерсона, так и мифическая геополитика Атлантиды и Гипербореи Александра Дугина. Сюда же можно отнести Ника Ланда с его «темным про- свещением» и «неореакционеров» вроде основателя PayPal мил лиардера Питера Тиля, настаивающего на несовместимости демо- кратии и свободы29.
В лекции 2012 года Тиль указывал на связь феодализма и IT-стартапов:
Сегодня растет популярность непоследовательной, мистиче- ской идеологии неофеодализма, которая одновременно связывает различные аспекты апокалиптических сценариев и усиливает чув- ство надвигающейся катастрофы. Этой идеологии не чужды ок- культизм, техноязычество и антимодернизм28. Примерами могут служить как мистическое юнгианство Джордана Питерсона, так и мифическая геополитика Атлантиды и Гипербореи Александра Дугина. Сюда же можно отнести Ника Ланда с его «темным про- свещением» и «неореакционеров» вроде основателя PayPal мил лиардера Питера Тиля, настаивающего на несовместимости демо- кратии и свободы29.
В лекции 2012 года Тиль указывал на связь феодализма и IT-стартапов:
“
Ни основатели, ни гендиректора не имеют абсолютной власти. Это скорее похоже на архаичную феодальную структуру. Сна- чала человека наделяют всякого рода полномочиями и права- ми, а потом, когда что-то идет не так, возлагают на него всю ответственность30.
Примечательно, что феодальные структуры превращаются в орудие свободы. По мнению Кори Робина, подобные тенденции связаны с американским «демократическим феодализмом», который обещает «демократию в управлении другими, в точности так, как монарх управляет своими подданными». Хотя Тиль с радостью бы вовсе отказался от демократии, он разделяет идею, что свобода — это защита привилегий, а привилегии служат выражением подлинной гениальности. Вместе с другими предпринимателями из Кремниевой долины Тиль стремится оградить свое состояние от посягательств демократии и выступает в защиту стратегии исхода и изоляции, предлагая богатым укрываться на островках в океане или даже на космических кораблях, чтобы уйти от уплаты налогов. В общем и целом появление подобной неореакционной идеологии демонстрирует, что доведенный до предела капитализм превращается в радикально децентрализованный неофеодализм.
Идеология гораздо меньше помогает тем, кто остался по ту сторону неофеодального разделения. Чтобы заглушить боль безысходного, бессмысленного и бесконечно монотонного труда, в дело идут опиаты, алкоголь, еда и т.д. Гендельсбергер описывает состояние стресса, вызванное беспрестанным техническим надзором на работе: опоздание на несколько секунд, невыполнение нормы, слишком частые походы в туалет могут обернуться увольнением. «Депрессию и чувство тревоги» вызывают как напряженный, однообразный труд с низким уровнем ответственности, так и работа, протекающая под пристальным техническим надзором. Неопределенность расписания и отсутствие гарантий заработной платы (а хищение зарплаты встречается повсеместно) приводят к стрессу и оказывают губительное воздействие. Характерное для неофеодализма предчувствие конца света, по крайней мере в ряде случаев, переживается на личном, семейном или локальном уровне. Катастрофа, к которой может привести глобальное потепление, вряд ли заставит сильно переживать того, кто и так из поколения в поколение переживает катастрофу.
Я постаралась показать, что четыре характерные для европейского феодализма черты — парцелляция суверенитета, иерархия и экспроприация, разделение на город и деревню, чувство незащищенности и апокалиптизм — релевантны для сегодняшней траектории развития капитализма. Взятые вместе эти характеристики позволяют нам увидеть в настоящем зародыши чего-то худшего, нежели капитализм, а именно неофеодализма, порождаемого капиталистическими процессами, которые начинают пожирать самих себя. Поясню, я не делаю исторических или эмпирических утверждений ни о фундаментальной структуре феодализма, ни о конкретно существовавших феодальных формациях. Я лишь обозначаю тенденции, которые позволят сделать настоящее понятным.
Идеология гораздо меньше помогает тем, кто остался по ту сторону неофеодального разделения. Чтобы заглушить боль безысходного, бессмысленного и бесконечно монотонного труда, в дело идут опиаты, алкоголь, еда и т.д. Гендельсбергер описывает состояние стресса, вызванное беспрестанным техническим надзором на работе: опоздание на несколько секунд, невыполнение нормы, слишком частые походы в туалет могут обернуться увольнением. «Депрессию и чувство тревоги» вызывают как напряженный, однообразный труд с низким уровнем ответственности, так и работа, протекающая под пристальным техническим надзором. Неопределенность расписания и отсутствие гарантий заработной платы (а хищение зарплаты встречается повсеместно) приводят к стрессу и оказывают губительное воздействие. Характерное для неофеодализма предчувствие конца света, по крайней мере в ряде случаев, переживается на личном, семейном или локальном уровне. Катастрофа, к которой может привести глобальное потепление, вряд ли заставит сильно переживать того, кто и так из поколения в поколение переживает катастрофу.
Я постаралась показать, что четыре характерные для европейского феодализма черты — парцелляция суверенитета, иерархия и экспроприация, разделение на город и деревню, чувство незащищенности и апокалиптизм — релевантны для сегодняшней траектории развития капитализма. Взятые вместе эти характеристики позволяют нам увидеть в настоящем зародыши чего-то худшего, нежели капитализм, а именно неофеодализма, порождаемого капиталистическими процессами, которые начинают пожирать самих себя. Поясню, я не делаю исторических или эмпирических утверждений ни о фундаментальной структуре феодализма, ни о конкретно существовавших феодальных формациях. Я лишь обозначаю тенденции, которые позволят сделать настоящее понятным.
Демократия и фашизм — ложная оппозиция
Называя «нечто страшнее» капитализма неофеодализмом, я отвергаю идею о том, что основной конфликт настоящего сводится к противостоянию между демократией и фашизмом. В США об этой оппозиции много пишут либеральные газеты и говорят ведущие политики-капиталисты. Только какой смысл говорить о том, что главной проблемой для демократии является угроза фашизма, когда большинство демократий представляют собой диктатуру буржуазии, систему правления, служащую интересам капитала и сильных мира сего? И правда, для кого это может стать новостью, учитывая растущую власть олигархов — финансистов, медиамагнатов и королей недвижимости, нефтяных и IT- миллиардеров? Особенно поражает, с какой яростью политические лидеры олигархов в США, Бразилии, Венгрии, Польше, Чехии и Великобритании борются против коммунистов.
Разговоры о том, что сегодня демократии угрожает поднимающий голову фашизм, отвлекают внимание от ключевой роли сетей глобального коммуникативного капитализма в усилении всеобщего недовольства и злобы. Риторика фашизма мешает увидеть причины, из-за которых правые пользуются успехом во вроде бы демократических странах. Эта риторика подает ненависть как нечто само собой разумеющееся, говоря о ней в терминах идентичности: такой человек и точка, его не переделаешь. Оппозиция демократия/фашизм не видит в правом повороте политизации. Вместе с тем ее причину следует искать в сфере экономики. Именно здесь сложные сетевые структуры производят чрезвычайное неравенство, систему, где победителю достается все или почти все. Сдвиг вправо — это реакция на рост неравенства. Жизнь становится все более безысходной и все менее предсказуемой. Профсоюзы слабеют. Развитие технологий ставит под вопрос существование целых отраслей, грозя сделать практически невозможным любое организованное сопротивление. Там, где левое движение слабо, или там, где ведущие СМИ и прокапиталистические политические партии препятствуют выражению левых взглядов, голосом народного гнева становятся те, кто готов критиковать эту систему. Сегодня это крайне правые.
Перед лицом незащищенности и разорения людям нужно за что-то зацепиться, нужно найти виновного. Правые предлагают идентичность, главными ингредиентами которой являются нация, церковь, семья. Они направляют недовольство против тех, кто угрожает этой идентичности: эмигрантов, социалистов, феминисток, сексуальных меньшинств. Концепция неофеодализма заставляет покинуть пространство идентичности и напрямую поставить вопрос о влиянии крайнего экономического неравенства на политическое сообщество и институты. Неофеодализм требует, чтобы мы обратили внимание на миллиардеров, которые выводят триллионы долларовых активов и стеной ограждают свои анклавы от миллионов людей, которым грозит стать беженцами из-за изменения климата, от сотен миллионов тех, кому в жизни вряд ли светит что-то большее, чем борьба за выживание. Грубо говоря, если мы признаем, что капитализм превращается в неофеодализм, то сможем отбросить надежды, будто выборы или не- значительные реформы могут хоть как-то улучшить сегодняшнее катастрофическое положение.
Называя текущие тенденции «неофеодальными», я указываю на изменения в трудовых отношениях. Сегодня идеал свободного договорного труда, оправдывающий и скрывающий принудительные классовые отношения, несостоятелен. Сегодня никому и во сне не привидится, что социальные отношения обогащения основаны на добровольном согласии. В странах глобального Севера с их экономикой услуг большинство людей занято в сфере обслуживания. У многих возникает чувство, что их телефоны, велосипеды, автомобили, дома уже не являются личной собственностью, но превратились в средства производства или средства получения ренты. Привязанные к платформам, жизненно необходимые товары потребления становятся средствами накопления капитала для владельцев этих платформ. Некоторые из нас еще тешат себя надеждой, что занимаются творческой деятельностью и принадлежат к привилегированному классу работников интеллектуального труда. Вместе с тем все больше работы делается бесплатно или без гарантии оплаты. Занятые в сфере знаний специалисты, как и поденные рабочие, часто конкурируют между собой за контракты — победитель соревнования награждается зарплатой. Большинство из нас принадлежит к не имеющему собственности низшему классу. Чтобы выжить, мы должны обслуживать потребности тех, кто получает большие дивиденды (работая личными помощниками и тренерами, репетиторами, нянями, поварами, уборщиками). Согласно докладу Бюро статистики труда США, через десять лет наибольшим спросом будут пользоваться персональные сиделки, то есть не профессиональные врачи, а социальные работники, помогающие человеку с личной гигиеной и уборкой. Когда-то таких людей называли слугами. Их и без того низкая зарплата становится еще меньше из-за выплаты долгов, пошлин, штрафов и аренды. В США налоги с населения перераспределяются в пользу корпораций. Например, в 2018 году 57 компаний, включая Amazon, не просто не платили налоги, но даже получили деньги от государства через налоговые льготы. Правительство США выкачивает деньги из своих граждан и отдает их корпорациям.
В марксистско-ленинистской традиции оптимизм в отношении коммунизма отчасти связан с тем, что коммунизм вырастает из капитализма, строится на возникших при капиталистическом способе производства организационных и инфраструктурных предпосылках и производственных фондах. Хотя кризисы перепроизводства всегда приводили к огромным потерям и разорению, сложно было поверить, что буржуазия доведет общество до полного уничтожения. Новые сеньоры антропоцена — миллиардеры от финансов, IT, медиа, недвижимости, перевозок и углеводородов — не остановятся ни перед чем. В погоне за собственными интересами они готовы разрушить хоть целый мир, чтобы сохранить свои безмерные богатства. На этапе абсолютного подчинения (субсумпции) труда капиталу система оборачивается против самой себя, превращаясь из способа производства в способ уничтожения, разорения, непроизводительного обогащения. Накопление капитала происходит уже не через эксплуатацию труда, но посредством экспроприации, ренты, долгов и штрафов.
Разговоры о том, что сегодня демократии угрожает поднимающий голову фашизм, отвлекают внимание от ключевой роли сетей глобального коммуникативного капитализма в усилении всеобщего недовольства и злобы. Риторика фашизма мешает увидеть причины, из-за которых правые пользуются успехом во вроде бы демократических странах. Эта риторика подает ненависть как нечто само собой разумеющееся, говоря о ней в терминах идентичности: такой человек и точка, его не переделаешь. Оппозиция демократия/фашизм не видит в правом повороте политизации. Вместе с тем ее причину следует искать в сфере экономики. Именно здесь сложные сетевые структуры производят чрезвычайное неравенство, систему, где победителю достается все или почти все. Сдвиг вправо — это реакция на рост неравенства. Жизнь становится все более безысходной и все менее предсказуемой. Профсоюзы слабеют. Развитие технологий ставит под вопрос существование целых отраслей, грозя сделать практически невозможным любое организованное сопротивление. Там, где левое движение слабо, или там, где ведущие СМИ и прокапиталистические политические партии препятствуют выражению левых взглядов, голосом народного гнева становятся те, кто готов критиковать эту систему. Сегодня это крайне правые.
Перед лицом незащищенности и разорения людям нужно за что-то зацепиться, нужно найти виновного. Правые предлагают идентичность, главными ингредиентами которой являются нация, церковь, семья. Они направляют недовольство против тех, кто угрожает этой идентичности: эмигрантов, социалистов, феминисток, сексуальных меньшинств. Концепция неофеодализма заставляет покинуть пространство идентичности и напрямую поставить вопрос о влиянии крайнего экономического неравенства на политическое сообщество и институты. Неофеодализм требует, чтобы мы обратили внимание на миллиардеров, которые выводят триллионы долларовых активов и стеной ограждают свои анклавы от миллионов людей, которым грозит стать беженцами из-за изменения климата, от сотен миллионов тех, кому в жизни вряд ли светит что-то большее, чем борьба за выживание. Грубо говоря, если мы признаем, что капитализм превращается в неофеодализм, то сможем отбросить надежды, будто выборы или не- значительные реформы могут хоть как-то улучшить сегодняшнее катастрофическое положение.
Называя текущие тенденции «неофеодальными», я указываю на изменения в трудовых отношениях. Сегодня идеал свободного договорного труда, оправдывающий и скрывающий принудительные классовые отношения, несостоятелен. Сегодня никому и во сне не привидится, что социальные отношения обогащения основаны на добровольном согласии. В странах глобального Севера с их экономикой услуг большинство людей занято в сфере обслуживания. У многих возникает чувство, что их телефоны, велосипеды, автомобили, дома уже не являются личной собственностью, но превратились в средства производства или средства получения ренты. Привязанные к платформам, жизненно необходимые товары потребления становятся средствами накопления капитала для владельцев этих платформ. Некоторые из нас еще тешат себя надеждой, что занимаются творческой деятельностью и принадлежат к привилегированному классу работников интеллектуального труда. Вместе с тем все больше работы делается бесплатно или без гарантии оплаты. Занятые в сфере знаний специалисты, как и поденные рабочие, часто конкурируют между собой за контракты — победитель соревнования награждается зарплатой. Большинство из нас принадлежит к не имеющему собственности низшему классу. Чтобы выжить, мы должны обслуживать потребности тех, кто получает большие дивиденды (работая личными помощниками и тренерами, репетиторами, нянями, поварами, уборщиками). Согласно докладу Бюро статистики труда США, через десять лет наибольшим спросом будут пользоваться персональные сиделки, то есть не профессиональные врачи, а социальные работники, помогающие человеку с личной гигиеной и уборкой. Когда-то таких людей называли слугами. Их и без того низкая зарплата становится еще меньше из-за выплаты долгов, пошлин, штрафов и аренды. В США налоги с населения перераспределяются в пользу корпораций. Например, в 2018 году 57 компаний, включая Amazon, не просто не платили налоги, но даже получили деньги от государства через налоговые льготы. Правительство США выкачивает деньги из своих граждан и отдает их корпорациям.
В марксистско-ленинистской традиции оптимизм в отношении коммунизма отчасти связан с тем, что коммунизм вырастает из капитализма, строится на возникших при капиталистическом способе производства организационных и инфраструктурных предпосылках и производственных фондах. Хотя кризисы перепроизводства всегда приводили к огромным потерям и разорению, сложно было поверить, что буржуазия доведет общество до полного уничтожения. Новые сеньоры антропоцена — миллиардеры от финансов, IT, медиа, недвижимости, перевозок и углеводородов — не остановятся ни перед чем. В погоне за собственными интересами они готовы разрушить хоть целый мир, чтобы сохранить свои безмерные богатства. На этапе абсолютного подчинения (субсумпции) труда капиталу система оборачивается против самой себя, превращаясь из способа производства в способ уничтожения, разорения, непроизводительного обогащения. Накопление капитала происходит уже не через эксплуатацию труда, но посредством экспроприации, ренты, долгов и штрафов.
Не просто параллель, но тенденция
Кому-то мои доводы в пользу концепции неофеодализма покажутся немарксистскими. Для кого-то марксизм сводится к упрощенной, детерминистской теории этапов и переходов, где капитализм возникает из феодализма, а следующим этапом неизбежно будет социализм. Я думаю иначе. Маркс тоже думал иначе. Он признавал сосуществование различных способов производства и указывал, что такое сосуществование может усиливать отдельные тенденции в различных способах производства, усугубляя нищету и угнетение. В этом же ключе Роза Люксембург обратила внимание на то, что капитализм нуждается в некапиталистических формациях, внешних по отношению к нему. Люксембург показывает, что первоначальное накопление характерно не только для феодальной эпохи, как считал Маркс, но является непременным условием капитализма на протяжении всей истории его существования. Непосредственное присвоение (вместо обмена) — еще одна характеристика капитализма, правило, а не исключение. Концепция расового капитализма основывается на схожем понимании: капитализм никогда не сводился к эквивалентному обмену, последний всегда был буржуазной выдумкой. Развитие капиталистической промышленности было возможно лишь благодаря рабству и колониям. Капитализм всецело зависит от силового принуждения, внеправового обогащения, принудительных изъятий и разорения, ему необходима укорененная, передающаяся по наследству иерархия.
В посвященном США исследовании Карен Оррен указывает на взаимное пересечение феодальных и капиталистических институтов, а также трудовых отношений. Она отмечает, что закон господства и подчинения продолжает действовать и в XX веке. Вслед за Андерсоном и Мейксинс Вуд, которые в своем анализе феодализма подчеркивали роль парцелляции суверенитета в установлении иерархии, Оррен пишет: «Феодальное общество представляло собой огромный улей разрозненных территорий и сфер влияния с их собственными привилегиями и правовыми институтами, обслуживающими интересы правящих. Каждая территория обладала собственным моральным кодексом, вписанным в более широкий контекст феодальной этики иерархии». В США рабочие подчинялись скорее обычаю, нежели закону, поскольку суды отказывались рассматривать их дела. С точки зрения закона господ и рабов рабочими становились не в результате заключения трудового договора, но в силу статуса, неотделимого от индивида. Как уже говорилось выше, Кори Робин также отмечает устойчивость феодальных отношений в США. «Приоритет консервативной позиции состоит в поддержании частных режимов власти», — пишет он. «Позвольте всем стать демократическими критиками государства; но убедитесь, что они остаются феодальными подданными в семье, на заводе, в поле». Таким образом, мы наблюдаем многочисленные примеры сосуществования различных режимов власти и производства, в частности капиталистического и феодального, когда феодальные отношения личной зависимости помогают создавать условия капиталистического производства и усиливают капиталистическую эксплуатацию.
Описывая «кажущиеся феодальными элементы» экономики Латинской Америки, Эндре Гундер Франк вносит свой вклад в развитие дискуссии. То, что выглядит «феодальным» в случае Латинской Америки, изучением которой занимался Франк, для него лишь эффект империалистического «экономического развития». Напомним, что Ленин теоретически осмыслял империализм в терминах возрастающей концентрации капитала, монополий и финансовой олигархии. Современные сложные сети — цифровые, коммуникационные, информационные — усиливают эти тенденции, вызывая стремительный рост неравенства по модели степенного распределения (разработанной Вильфредо Парето). Выводы Франка о Латинской Америке сегодня релевантны как для США и Великобритании, так и для всего мира (хотя и в разной степени): неофеодализм — продолжение империализма. Этот тезис станет понятнее, если взглянуть на структуру сложных сетей.
Альберт-Ласло Барабаши в своей книге Linked («Связанные, подключенные») вычленяет формальные характеристики степенного распределения в комплексных сетях, то есть таких, отличительными чертами которых являются свобода выбора, рост, предпочтительное присоединение. В таких сетях люди самостоятельно решают, с кем они хотят вступать в контакт, а с кем нет. Количество соединений с течением времени возрастает, и поэтому люди склонны выбирать то, что нравится другим, а не то, о чем почти никто не знает. Например, популярная книга, ресторан или интернет-сайт имеют примерно в два раза больше соединений/ссылок, чем стоящие на втором месте в списке популярности; второе место собирает в два раза больше «линков», чем третье, в то время как различия между позициями, находящимися в конце пищевой цепи, в конце графика распределения, несущественны. С помощью графика степенного распределения можно изобразить ситуацию, когда победитель забирает все или почти все. Находящийся на вершине имеет гораздо больше, чем те, кто находится снизу. Распределение происходит не по нормальной кривой, а напоминает скорее длинный хвост. У наиболее популярных людей в твиттере — более 100 миллионов подписчиков, у тех, кто находится на девятом или десятом месте — около 50 миллионов, а у рядовых пользователей — около 200 подписчиков. Еще один пример: представьте себе организацию или учреждение, где 20% сотрудников делают 80% работы; в школе, университете или активистских группах некоторые занимают собой все пространство, лишь немногие постоянно говорят и выступают. Чтобы сделать это пространство более равноправным, требуется вмешательство.
Структура сложных сетей требует включения: чем больше элементов в сети, тем выгоднее для тех, кто на самом верху. Возникает конкуренция за внимание, ресурсы, деньги, рабочие места — за все, что имеет сетевую форму. Это, в свою очередь, приводит к концентрации. Таким образом, результатом свободного выбора, роста и преференциальной привязанности является иерархия, степенное распределение, при котором верхние слои общества имеют гораздо больше, чем нижние. Другой способ выразить ту же точку зрения: иерархия имманентна сетям. Она не навязывается извне. Преодоление иерархии, борьба с ней тре- буют внешнего вмешательства, разрыва, который отсечет голову гидры, нарушив работу системы, производящей неравенство. Другими словами, ликвидация имманентных иерархий требует политики.
Когда мы осознаем, что цифровые сети превращают нас в постоянных производителей данных, этого сырья коммуникативного капитализма, мы сможем еще лучше понять феномен неофеодализма — подчинение неизбежно. Классическое различие между феодализмом и капитализмом заключается в том, что феодализм основывается на прямой экспроприации, а капитализм — на свободной продаже рабочей силы свободными работниками. Маркс, конечно, ясно дал понять, что эта выдумка перестает работать в «сокровенных недрах производства», где капиталист и рабочий не равны друг другу. Он также наглядно показал, какую роль колониализм и работорговля играют в развитии капитализма. На сетевой социальной фабрике даже вымысел о свободном производстве утратил всякую силу. Общение, взаимодействие и даже перемещение в социальном пространстве генерируют данные, которые предназначены не для нас, а для других. Наши жизни и взаимоотношения превратились в ресурс для накопления капитала. Капитализм не может сохранять норму прибыли, эксплуатируя производительный труд. Сегодня он эксплуатирует потребление, извлекая прибавочную стоимость из ресурса данных, которые затем можно вновь использовать для воздействия на труд, производство, оборот, финансы и долг.
В таких крайне расистских обществах, как Соединенные Штаты, после десятилетий борьбы против расового, гендерного и этнического неравенства трудно поверить, что буржуазные вымыслы о свободе и равенстве когда-либо могли легитимировать рыночные отношения. Сегодня богатые и белые не чувствуют необходимости оправдывать несправедливое распределение. Теперь это наша задача — доказать, что мы имеем право хоть на что-то. Империализм привел к тому, что монопольный капитал может заставить государства снижать налоги, предоставлять налоговые льготы и преференции, вступать в соглашения, которые заменяют государственные суды частными трибуналами. Поставленные в зависимость от капитала государства продают государственную собственность и активы, ищут способы привлечь застройщиков и реализуют стратегии, привлекательные для богатых и губительные для бедных.
Неофеодализм отнюдь не вызван консервативным стремлением вернуться к прежней политико-экономической форме. Скорее он является продолжением, рефлексивизацией империализма в условиях коммуникативного капитализма. Структура сложных сетей показывает, почему современный капитализм стремится к неофеодализму. Комплексные сети подрывают равенство и усиливают иерархию посредством инклюзивности, свободного выбора и демократического участия. Иерархия — неотъемлемая черта сетей, характеризующихся свободой выбора, ростом и предпочтительным подключением. В то же время при коммуникативном капитализме практики, связанные с демократией, такие как свобода слова и дискуссии, концентрируются в отдельно стоящие аффективные сети, где политика сводится к ежедневно высказываемому негодованию. Освобожденное от пут демократии, но все еще претендующее на демократическую легитимность государство превращается в изощренный инструмент принуждения, наблюдения и контроля, становится средством поддержания порядка в условиях экспроприации, всеобщего разорения и фрагментации. В Соединенных Штатах это приводит к тому, что финансирование выделяется тюрьмам, а не школам, создаются новые отделения полиции, а не базовая инфраструктура (мосты и дороги), субсидии получают корпорации, а не население.
В посвященном США исследовании Карен Оррен указывает на взаимное пересечение феодальных и капиталистических институтов, а также трудовых отношений. Она отмечает, что закон господства и подчинения продолжает действовать и в XX веке. Вслед за Андерсоном и Мейксинс Вуд, которые в своем анализе феодализма подчеркивали роль парцелляции суверенитета в установлении иерархии, Оррен пишет: «Феодальное общество представляло собой огромный улей разрозненных территорий и сфер влияния с их собственными привилегиями и правовыми институтами, обслуживающими интересы правящих. Каждая территория обладала собственным моральным кодексом, вписанным в более широкий контекст феодальной этики иерархии». В США рабочие подчинялись скорее обычаю, нежели закону, поскольку суды отказывались рассматривать их дела. С точки зрения закона господ и рабов рабочими становились не в результате заключения трудового договора, но в силу статуса, неотделимого от индивида. Как уже говорилось выше, Кори Робин также отмечает устойчивость феодальных отношений в США. «Приоритет консервативной позиции состоит в поддержании частных режимов власти», — пишет он. «Позвольте всем стать демократическими критиками государства; но убедитесь, что они остаются феодальными подданными в семье, на заводе, в поле». Таким образом, мы наблюдаем многочисленные примеры сосуществования различных режимов власти и производства, в частности капиталистического и феодального, когда феодальные отношения личной зависимости помогают создавать условия капиталистического производства и усиливают капиталистическую эксплуатацию.
Описывая «кажущиеся феодальными элементы» экономики Латинской Америки, Эндре Гундер Франк вносит свой вклад в развитие дискуссии. То, что выглядит «феодальным» в случае Латинской Америки, изучением которой занимался Франк, для него лишь эффект империалистического «экономического развития». Напомним, что Ленин теоретически осмыслял империализм в терминах возрастающей концентрации капитала, монополий и финансовой олигархии. Современные сложные сети — цифровые, коммуникационные, информационные — усиливают эти тенденции, вызывая стремительный рост неравенства по модели степенного распределения (разработанной Вильфредо Парето). Выводы Франка о Латинской Америке сегодня релевантны как для США и Великобритании, так и для всего мира (хотя и в разной степени): неофеодализм — продолжение империализма. Этот тезис станет понятнее, если взглянуть на структуру сложных сетей.
Альберт-Ласло Барабаши в своей книге Linked («Связанные, подключенные») вычленяет формальные характеристики степенного распределения в комплексных сетях, то есть таких, отличительными чертами которых являются свобода выбора, рост, предпочтительное присоединение. В таких сетях люди самостоятельно решают, с кем они хотят вступать в контакт, а с кем нет. Количество соединений с течением времени возрастает, и поэтому люди склонны выбирать то, что нравится другим, а не то, о чем почти никто не знает. Например, популярная книга, ресторан или интернет-сайт имеют примерно в два раза больше соединений/ссылок, чем стоящие на втором месте в списке популярности; второе место собирает в два раза больше «линков», чем третье, в то время как различия между позициями, находящимися в конце пищевой цепи, в конце графика распределения, несущественны. С помощью графика степенного распределения можно изобразить ситуацию, когда победитель забирает все или почти все. Находящийся на вершине имеет гораздо больше, чем те, кто находится снизу. Распределение происходит не по нормальной кривой, а напоминает скорее длинный хвост. У наиболее популярных людей в твиттере — более 100 миллионов подписчиков, у тех, кто находится на девятом или десятом месте — около 50 миллионов, а у рядовых пользователей — около 200 подписчиков. Еще один пример: представьте себе организацию или учреждение, где 20% сотрудников делают 80% работы; в школе, университете или активистских группах некоторые занимают собой все пространство, лишь немногие постоянно говорят и выступают. Чтобы сделать это пространство более равноправным, требуется вмешательство.
Структура сложных сетей требует включения: чем больше элементов в сети, тем выгоднее для тех, кто на самом верху. Возникает конкуренция за внимание, ресурсы, деньги, рабочие места — за все, что имеет сетевую форму. Это, в свою очередь, приводит к концентрации. Таким образом, результатом свободного выбора, роста и преференциальной привязанности является иерархия, степенное распределение, при котором верхние слои общества имеют гораздо больше, чем нижние. Другой способ выразить ту же точку зрения: иерархия имманентна сетям. Она не навязывается извне. Преодоление иерархии, борьба с ней тре- буют внешнего вмешательства, разрыва, который отсечет голову гидры, нарушив работу системы, производящей неравенство. Другими словами, ликвидация имманентных иерархий требует политики.
Когда мы осознаем, что цифровые сети превращают нас в постоянных производителей данных, этого сырья коммуникативного капитализма, мы сможем еще лучше понять феномен неофеодализма — подчинение неизбежно. Классическое различие между феодализмом и капитализмом заключается в том, что феодализм основывается на прямой экспроприации, а капитализм — на свободной продаже рабочей силы свободными работниками. Маркс, конечно, ясно дал понять, что эта выдумка перестает работать в «сокровенных недрах производства», где капиталист и рабочий не равны друг другу. Он также наглядно показал, какую роль колониализм и работорговля играют в развитии капитализма. На сетевой социальной фабрике даже вымысел о свободном производстве утратил всякую силу. Общение, взаимодействие и даже перемещение в социальном пространстве генерируют данные, которые предназначены не для нас, а для других. Наши жизни и взаимоотношения превратились в ресурс для накопления капитала. Капитализм не может сохранять норму прибыли, эксплуатируя производительный труд. Сегодня он эксплуатирует потребление, извлекая прибавочную стоимость из ресурса данных, которые затем можно вновь использовать для воздействия на труд, производство, оборот, финансы и долг.
В таких крайне расистских обществах, как Соединенные Штаты, после десятилетий борьбы против расового, гендерного и этнического неравенства трудно поверить, что буржуазные вымыслы о свободе и равенстве когда-либо могли легитимировать рыночные отношения. Сегодня богатые и белые не чувствуют необходимости оправдывать несправедливое распределение. Теперь это наша задача — доказать, что мы имеем право хоть на что-то. Империализм привел к тому, что монопольный капитал может заставить государства снижать налоги, предоставлять налоговые льготы и преференции, вступать в соглашения, которые заменяют государственные суды частными трибуналами. Поставленные в зависимость от капитала государства продают государственную собственность и активы, ищут способы привлечь застройщиков и реализуют стратегии, привлекательные для богатых и губительные для бедных.
Неофеодализм отнюдь не вызван консервативным стремлением вернуться к прежней политико-экономической форме. Скорее он является продолжением, рефлексивизацией империализма в условиях коммуникативного капитализма. Структура сложных сетей показывает, почему современный капитализм стремится к неофеодализму. Комплексные сети подрывают равенство и усиливают иерархию посредством инклюзивности, свободного выбора и демократического участия. Иерархия — неотъемлемая черта сетей, характеризующихся свободой выбора, ростом и предпочтительным подключением. В то же время при коммуникативном капитализме практики, связанные с демократией, такие как свобода слова и дискуссии, концентрируются в отдельно стоящие аффективные сети, где политика сводится к ежедневно высказываемому негодованию. Освобожденное от пут демократии, но все еще претендующее на демократическую легитимность государство превращается в изощренный инструмент принуждения, наблюдения и контроля, становится средством поддержания порядка в условиях экспроприации, всеобщего разорения и фрагментации. В Соединенных Штатах это приводит к тому, что финансирование выделяется тюрьмам, а не школам, создаются новые отделения полиции, а не базовая инфраструктура (мосты и дороги), субсидии получают корпорации, а не население.
Политический смысл гипотезы неофеодализма
Одна из проблем, с которой сегодня сталкиваются левые, заключается в том, что некоторые наиболее популярные идеи усиливают неофеодализм или, по крайней мере, не могут быть противопоставлены ему, поскольку сами эти идеи — часть неофеодального воображения. Локализм лишь усиливает парцелляцию суверенитета. Технологические и платформенные подходы укрепляют иерархию и неравенство. Муниципализм усугубляет разрыв между городом и деревней, ведущий к оскудению последней. Требования субсидий для фермерских хозяйств выглядят так, будто крестьянская экономика все еще существует. И это сегодня, когда половина населения планеты живет в городах (включая 82% жителей Северной Америки и 74% европейцев), а миллионы людей становятся беженцами, покидая свои дома из-за изменения климата, войн и коммерческих захватов земли. Конечно, жители внутренних районов страны сталкиваются с политическими, культурными и экономическими условиями, в которых невозможно выжить, занимаясь исключительно сельским хозяйством (примерно 50 стран мира — это страны с низким уровнем доходов, испытывающие дефицит продовольствия; большинство из них несет основную тяжесть последствий изменения климата; почти все они находятся в Африке). Аналогичным образом идея всеобщего базового дохода является несостоятельной стратегией, направленной лишь на обеспечение выживания (survivalist approach). Базового дохода должно быть вполне достаточно, чтобы удержать людей во внутренних районах страны, но не для того, чтобы переехать в города, жизнь в которых будет им не по карману. Четвертый элемент неофеодализма — чувство незащищенности и надвигающегося апокалипсиса — проявляется в том, что левые больше всего беспокоятся о грядущей катастрофе и конце света, как будто ближайшая сотня лет просто не имеет значения.
Взятые вместе эти позиции рисуют будущее, в котором небольшие группы фермеров занимаются натуральным сельским хозяйством и производят домашний сыр, возможно, неподалеку от городов-анклавов, где вооруженные дронами работники техноиндустрии, подобно участникам движения выживальщиков, экспериментируют с городскими садами. Такие группы воспроизводят свою жизнь совместно, однако воспроизводимое ими общее (commons) неизбежно является недостаточным, локальным, а в некотором смысле исключительным и элитарным. Исключительным, поскольку количество производимых благ обязательно ограничено; элитарным, потому что потребности таких сообществ имеют узкую культурную специфику, не являются всеобщими. Это похоже на идею о том, что в будущем будут только «классные» города, со всех сторон окруженные органическими фермами (и не важно, каким именно будет способ производства в сельском хозяйстве). Фермеры сами решили стать фермерами или они ими родились? Принадлежит ли земля фермерам? Или они делят право собственности с кем-то еще? Могут ли они экспортировать свою продукцию? А как насчет скрытых условий, которые обеспечивают существование «классных» городов — строителей, уборщиков и тех, кто поддерживает инфраструктуру, поставщиков транспорта и связи, тех, кто заботится о здоровье, образовании и детях? Для них эти города такие же «классные»? Как эти города связаны друг с другом? Не похожи ли они на федерацию крепостей, окруженных множеством стен и границ, которые охраняются полицией от номадов и варваров, населяющих городские пригороды? Или же процветание на этой гостеприимной для немногих планете фактически подразумевает существование огромного невидимого государства, которое способно захватить и сравнять с землей целые отрасли этой углеводородной экономики?
Популярные левые идеи оказываются в фарватере неофеодальных тенденций, предлагая предоставить самим себе глубинку, сельские районы и небольшие города, не пожинающие плодов бурного экономического роста, и культивировать те элементы городского развития, которые идут на благо богатым и образованным (в нашем роботизированном будущем). Вместо картины освобождения рабочего класса эта модель просто не видит рабочий класс. Когда речь заходит о работе, некоторые левые настаивают на том, что мы должны исходить из идеи преодоления работы, рисуя буколические пейзажи фермерских хозяйств или портреты счастливых айтишников, не ведающих бед. О, светлое будущее нематериального труда! Сегодня, когда ни для кого не секрет, насколько тяжела работа в колл-центрах, не говоря уже о психологических травмах сотрудников, которые занимаются мониторингом нарушений или незаконного контента на сайтах типа фейсбука, идея «нематериального труда» представляется абсолютно неадекватной. Очевидно, что концепция «пост-работы» игнорирует тяжелую и легкую промышленность, производство и обслуживание инфраструктуры, широкий спектр труда, необходимого для общественного воспроизводства, и жизненно важную государственную структуру. Учитывая, что большинство американских городов находятся на побережье, в этой модели отсутствует институциональная база, необходимая для реакции на изменение климата. Неофеодальная гипотеза позволяет нам увидеть как привлекательность, так и слабость популярных левых идей. Они привлекательны, потому что резонируют с господствующим здравым смыслом. Они слабы, потому что господствующий здравый смысл — это выражение неофеодальных тенденций.
Взятые вместе эти позиции рисуют будущее, в котором небольшие группы фермеров занимаются натуральным сельским хозяйством и производят домашний сыр, возможно, неподалеку от городов-анклавов, где вооруженные дронами работники техноиндустрии, подобно участникам движения выживальщиков, экспериментируют с городскими садами. Такие группы воспроизводят свою жизнь совместно, однако воспроизводимое ими общее (commons) неизбежно является недостаточным, локальным, а в некотором смысле исключительным и элитарным. Исключительным, поскольку количество производимых благ обязательно ограничено; элитарным, потому что потребности таких сообществ имеют узкую культурную специфику, не являются всеобщими. Это похоже на идею о том, что в будущем будут только «классные» города, со всех сторон окруженные органическими фермами (и не важно, каким именно будет способ производства в сельском хозяйстве). Фермеры сами решили стать фермерами или они ими родились? Принадлежит ли земля фермерам? Или они делят право собственности с кем-то еще? Могут ли они экспортировать свою продукцию? А как насчет скрытых условий, которые обеспечивают существование «классных» городов — строителей, уборщиков и тех, кто поддерживает инфраструктуру, поставщиков транспорта и связи, тех, кто заботится о здоровье, образовании и детях? Для них эти города такие же «классные»? Как эти города связаны друг с другом? Не похожи ли они на федерацию крепостей, окруженных множеством стен и границ, которые охраняются полицией от номадов и варваров, населяющих городские пригороды? Или же процветание на этой гостеприимной для немногих планете фактически подразумевает существование огромного невидимого государства, которое способно захватить и сравнять с землей целые отрасли этой углеводородной экономики?
Популярные левые идеи оказываются в фарватере неофеодальных тенденций, предлагая предоставить самим себе глубинку, сельские районы и небольшие города, не пожинающие плодов бурного экономического роста, и культивировать те элементы городского развития, которые идут на благо богатым и образованным (в нашем роботизированном будущем). Вместо картины освобождения рабочего класса эта модель просто не видит рабочий класс. Когда речь заходит о работе, некоторые левые настаивают на том, что мы должны исходить из идеи преодоления работы, рисуя буколические пейзажи фермерских хозяйств или портреты счастливых айтишников, не ведающих бед. О, светлое будущее нематериального труда! Сегодня, когда ни для кого не секрет, насколько тяжела работа в колл-центрах, не говоря уже о психологических травмах сотрудников, которые занимаются мониторингом нарушений или незаконного контента на сайтах типа фейсбука, идея «нематериального труда» представляется абсолютно неадекватной. Очевидно, что концепция «пост-работы» игнорирует тяжелую и легкую промышленность, производство и обслуживание инфраструктуры, широкий спектр труда, необходимого для общественного воспроизводства, и жизненно важную государственную структуру. Учитывая, что большинство американских городов находятся на побережье, в этой модели отсутствует институциональная база, необходимая для реакции на изменение климата. Неофеодальная гипотеза позволяет нам увидеть как привлекательность, так и слабость популярных левых идей. Они привлекательны, потому что резонируют с господствующим здравым смыслом. Они слабы, потому что господствующий здравый смысл — это выражение неофеодальных тенденций.
Коммунизм?
Те, кто не разделяет левых идей, уже критиковали текущее положение вещей, указывая на неофеодальные тенденции. Глава российской Антимонопольной службы предостерегает об опасности «экономического феодализма... где нет частного сектора, нет капиталистических отношений, а есть только сеньоры и их вассалы». Обеспокоенность Игоря Артемьева в связи с государственным вмешательством в российскую экономику созвучна критике, высказанной шведским экономистом Андерсом Аслундом; целый ряд его статей посвящен неофеодальному капитализму в России.
Если при анализе ситуации в России неофеодализация воспринимается как результат действий государства, то консервативные и либертарианские экономисты в США считают, что массовое крепостничество возникает из «зеленого элитизма» устойчивого развития и «хипстерского» сокращения рабочих мест, которые позиционируются как неотъемлемые компоненты идеологии Кремниевой долины, Голливуда, миллиардеров от IT и высокоскоростных железных дорог. Например, Джоэль Коткин утверждает, что устойчивое развитие — это либеральная политика богатых, наносящая вред большинству. Он замечает, что в энергетике, агропромышленном комплексе и строительстве занято больше людей, чем в высоких технологиях и финансах, а это означает, что эти отрасли лучше отвечают потребностям большинства. Коткин пишет: «Старый экономический режим делал упор на рост и восходящую мобильность. Новый экономический порядок, напротив, скорее ориентирован на „устойчивость" (это понятие выдает феодальное мировоззрение), а не на стремительный экономический рост». Выражая противоречия в капиталистическом классе на языке разделения между элитой и народом (типичного для популизма), Коткин представляет ситуацию так, будто нефтегазовый сектор служит интересам большинства. Главными врагами выступают высокие технологии, финансы и глобализация, которые угрожают «создать новый социальный порядок, более близкий к феодальным структурам — из-за непреодолимых препятствий для социальной мобильности, — чем к промышленному капитализму, хотя и весьма хаотичному на ранних стадиях развития». В этой либертарианской фантазии феодализм встает на место врага, которое ранее занимал коммунизм. Угроза централизации и угроза частной собственности — эти элементы идеологии остаются неизменными.
Подобные опасения правых указывают на то, что должны перехватить левые, а именно на коммунистическую альтернативу неофеодализму. Рассмотренные нами четыре характеристики неофеодализма позволяют выявить возможности, которые при наличии политической организации и воли возможно перенаправить в другое русло.
Парцелляция может быть переосмыслена как необходимое для коммунистического универсализма ослабление национального государства. В парцелляции суверенитета можно увидеть не просто раздробленность, но разделение элементов, которые можно преобразовать в новые глобальные государственные структуры, необходимые для борьбы с надвигающейся катастрофой. Транс-национальные организации — от финансовых институтов, корпораций и социальных сетей до партий, тематических союзов и политических образований — свидетельствуют о возможности объединения структур поверх национальных государств. Нетрудно представить их преобразование в институты глобального коммунизма, служащие не накоплению капитала и защите привилегий миллиардеров, а эгалитарному процветанию большинства в эпоху всеобщей эмансипации. Чтобы это произошло, нужна политическая борьба — капиталистический класс добровольно не уступит. Но парцелляция суверенитета свидетельствует о том, что власть капитала не столь нерушима, как может показаться любому из нас. Это позволяет нам представить, как из сложного клубка ассоциаций, которые выходят за рамки простой геометрии вертикали и горизонтали или клише локальной и глобальной географии, может сформироваться международное коммунистическое государство.
Разделение на феодалов и крестьян, экспроприация, неравенство и иерархия могут быть выражены в левой политической программе. Для коммунистов это разделение служит свидетельством классового конфликта, в котором они встают на сторону крестьян и обездоленных; один из важных примеров в этом направлении — движение Via Campesina. Уничтожая класс господ, мы упраздняем частную собственность и экспроприируем средства коммуникации, производства, транспорта и т. д. — так, чтобы производство служило потребностям человека. Нетрудно избавиться от триллионов долларов фиктивного капитала — капиталистическая система делает это регулярно. Но мы сделаем это целенаправленно. И нам следует обсудить, какие технологии мы хотим иметь и какие из них нужны, а также каковы реальные затраты на их производство. Например, готовы ли мы трудиться на колтановых рудниках ради сотовых телефонов? Хотим ли мы полностью отказаться от сбора метаданных или можно найти способы их использования для более точной оценки потребностей и нужд?
Освободившись от ограничений, связанных с накоплением капитала, мы, наконец, смогли бы сами принимать решения о своей коллективной жизни, вместо того чтобы этот жизненно важный выбор тайно делали за нас.
Что касается городов и отдаленных районов, то, если мы покончим с экономикой накопления капитала, станет возможным устранить неравенство между городом и деревней, а также причины этого неравенства — разделение труда. Если говорить о том, что можно сделать прямо сейчас, более конкретно, то мы, как коммунисты, отстаивающие интересы «глубинки», видим новые возможности для организованной борьбы, основанной на текущих тенденциях. Так, один из вариантов стратегии—маоистское окружение городов. Во всяком случае ужесточение политики в отношении мигрантов и беженцев, классовая борьба, разворачивающаяся в различных формах на окраинах городов, и растущий гнев жителей провинции — тенденции, которые со всей очевидностью заявили о себе во Франции, а также в избирательной политике, увенчавшейся правым поворотом в США, Венгрии, Польше, Канаде и других странах, — все это очерчивает поле реальной борьбы, исход которой не предрешен. Правый поворот — не злой рок. Все зависит от организации, способности предложить политическую стратегию, которая учитывает широкий спектр человеческих потребностей и чаяний, дает возможность процветания. Наконец, вместо того чтобы страдать от чувства незащищенности и грезить о надвигающемся конце света, мы можем — и должны — развивать коммунистические добродетели солидарности, мужества, дисциплины и уверенности, добродетели, которые возникают из чувства товарищества и порождают его. Перед нами выбор: либо все это, либо неофеодализм.
Подведем итог. Я начала с того, что сегодня нам нужно думать уже не о капитализме, а о чем-то худшем — неофеодализме. Это не значит, что капиталистических отношений производства и эксплуатации больше не существует. Это означает, что другие аспекты капиталистического производства — экспроприация, господство и сила — стали настолько существенными, что любые разговоры о фикции свободных и равных игроков, встречающихся на рынке труда, сегодня утратили всякий смысл. Это означает, что рента и долг в большей степени способствуют накоплению капитала, нежели прибыль, и что разрыв между осуществляемой работой и заработной платой не укладывается в рамки производительного труда. Следовательно, можно говорить о том, что буржуазное государство претерпевает серьезные изменения. Когда
Ленин назвал империализм последней стадией развития капитализма, он ясно показал, что капиталистические отношения все еще существуют, но в новой форме, поэтому монополия, финансы и территориальное разделение мира требуют другого анализа. Неофеодализм также может помочь нам переосмыслить порожденные коммуникативным капитализмом тенденции. Люксембург настаивала на том, что империализм — это следствие специфической потребности капитализма во внешнем; капитализм всегда опирается на материалы и труд, которых он не производит. Но что происходит, когда капитализм приобретает глобальные масштабы? Он обращается против самого себя, полностью подчиняя себе человеческую жизнь с помощью цифровых сетей и повсеместного распространения персонализированных средств связи. Эта рефлексивизация порождает законы степенного распределения, крайнее неравенство, новых сеньоров и крепостных, огромные состояния и нищету, а также ведет к парцелляции суверенитета, когда немногочисленные богачи отгораживаются от огромных масс бедняков, ютящихся на заброшенных окраинах. Избежать этого — противостоять этому — может только организованная политическая борьба за коммунизм.
джерело
Если при анализе ситуации в России неофеодализация воспринимается как результат действий государства, то консервативные и либертарианские экономисты в США считают, что массовое крепостничество возникает из «зеленого элитизма» устойчивого развития и «хипстерского» сокращения рабочих мест, которые позиционируются как неотъемлемые компоненты идеологии Кремниевой долины, Голливуда, миллиардеров от IT и высокоскоростных железных дорог. Например, Джоэль Коткин утверждает, что устойчивое развитие — это либеральная политика богатых, наносящая вред большинству. Он замечает, что в энергетике, агропромышленном комплексе и строительстве занято больше людей, чем в высоких технологиях и финансах, а это означает, что эти отрасли лучше отвечают потребностям большинства. Коткин пишет: «Старый экономический режим делал упор на рост и восходящую мобильность. Новый экономический порядок, напротив, скорее ориентирован на „устойчивость" (это понятие выдает феодальное мировоззрение), а не на стремительный экономический рост». Выражая противоречия в капиталистическом классе на языке разделения между элитой и народом (типичного для популизма), Коткин представляет ситуацию так, будто нефтегазовый сектор служит интересам большинства. Главными врагами выступают высокие технологии, финансы и глобализация, которые угрожают «создать новый социальный порядок, более близкий к феодальным структурам — из-за непреодолимых препятствий для социальной мобильности, — чем к промышленному капитализму, хотя и весьма хаотичному на ранних стадиях развития». В этой либертарианской фантазии феодализм встает на место врага, которое ранее занимал коммунизм. Угроза централизации и угроза частной собственности — эти элементы идеологии остаются неизменными.
Подобные опасения правых указывают на то, что должны перехватить левые, а именно на коммунистическую альтернативу неофеодализму. Рассмотренные нами четыре характеристики неофеодализма позволяют выявить возможности, которые при наличии политической организации и воли возможно перенаправить в другое русло.
Парцелляция может быть переосмыслена как необходимое для коммунистического универсализма ослабление национального государства. В парцелляции суверенитета можно увидеть не просто раздробленность, но разделение элементов, которые можно преобразовать в новые глобальные государственные структуры, необходимые для борьбы с надвигающейся катастрофой. Транс-национальные организации — от финансовых институтов, корпораций и социальных сетей до партий, тематических союзов и политических образований — свидетельствуют о возможности объединения структур поверх национальных государств. Нетрудно представить их преобразование в институты глобального коммунизма, служащие не накоплению капитала и защите привилегий миллиардеров, а эгалитарному процветанию большинства в эпоху всеобщей эмансипации. Чтобы это произошло, нужна политическая борьба — капиталистический класс добровольно не уступит. Но парцелляция суверенитета свидетельствует о том, что власть капитала не столь нерушима, как может показаться любому из нас. Это позволяет нам представить, как из сложного клубка ассоциаций, которые выходят за рамки простой геометрии вертикали и горизонтали или клише локальной и глобальной географии, может сформироваться международное коммунистическое государство.
Разделение на феодалов и крестьян, экспроприация, неравенство и иерархия могут быть выражены в левой политической программе. Для коммунистов это разделение служит свидетельством классового конфликта, в котором они встают на сторону крестьян и обездоленных; один из важных примеров в этом направлении — движение Via Campesina. Уничтожая класс господ, мы упраздняем частную собственность и экспроприируем средства коммуникации, производства, транспорта и т. д. — так, чтобы производство служило потребностям человека. Нетрудно избавиться от триллионов долларов фиктивного капитала — капиталистическая система делает это регулярно. Но мы сделаем это целенаправленно. И нам следует обсудить, какие технологии мы хотим иметь и какие из них нужны, а также каковы реальные затраты на их производство. Например, готовы ли мы трудиться на колтановых рудниках ради сотовых телефонов? Хотим ли мы полностью отказаться от сбора метаданных или можно найти способы их использования для более точной оценки потребностей и нужд?
Освободившись от ограничений, связанных с накоплением капитала, мы, наконец, смогли бы сами принимать решения о своей коллективной жизни, вместо того чтобы этот жизненно важный выбор тайно делали за нас.
Что касается городов и отдаленных районов, то, если мы покончим с экономикой накопления капитала, станет возможным устранить неравенство между городом и деревней, а также причины этого неравенства — разделение труда. Если говорить о том, что можно сделать прямо сейчас, более конкретно, то мы, как коммунисты, отстаивающие интересы «глубинки», видим новые возможности для организованной борьбы, основанной на текущих тенденциях. Так, один из вариантов стратегии—маоистское окружение городов. Во всяком случае ужесточение политики в отношении мигрантов и беженцев, классовая борьба, разворачивающаяся в различных формах на окраинах городов, и растущий гнев жителей провинции — тенденции, которые со всей очевидностью заявили о себе во Франции, а также в избирательной политике, увенчавшейся правым поворотом в США, Венгрии, Польше, Канаде и других странах, — все это очерчивает поле реальной борьбы, исход которой не предрешен. Правый поворот — не злой рок. Все зависит от организации, способности предложить политическую стратегию, которая учитывает широкий спектр человеческих потребностей и чаяний, дает возможность процветания. Наконец, вместо того чтобы страдать от чувства незащищенности и грезить о надвигающемся конце света, мы можем — и должны — развивать коммунистические добродетели солидарности, мужества, дисциплины и уверенности, добродетели, которые возникают из чувства товарищества и порождают его. Перед нами выбор: либо все это, либо неофеодализм.
Подведем итог. Я начала с того, что сегодня нам нужно думать уже не о капитализме, а о чем-то худшем — неофеодализме. Это не значит, что капиталистических отношений производства и эксплуатации больше не существует. Это означает, что другие аспекты капиталистического производства — экспроприация, господство и сила — стали настолько существенными, что любые разговоры о фикции свободных и равных игроков, встречающихся на рынке труда, сегодня утратили всякий смысл. Это означает, что рента и долг в большей степени способствуют накоплению капитала, нежели прибыль, и что разрыв между осуществляемой работой и заработной платой не укладывается в рамки производительного труда. Следовательно, можно говорить о том, что буржуазное государство претерпевает серьезные изменения. Когда
Ленин назвал империализм последней стадией развития капитализма, он ясно показал, что капиталистические отношения все еще существуют, но в новой форме, поэтому монополия, финансы и территориальное разделение мира требуют другого анализа. Неофеодализм также может помочь нам переосмыслить порожденные коммуникативным капитализмом тенденции. Люксембург настаивала на том, что империализм — это следствие специфической потребности капитализма во внешнем; капитализм всегда опирается на материалы и труд, которых он не производит. Но что происходит, когда капитализм приобретает глобальные масштабы? Он обращается против самого себя, полностью подчиняя себе человеческую жизнь с помощью цифровых сетей и повсеместного распространения персонализированных средств связи. Эта рефлексивизация порождает законы степенного распределения, крайнее неравенство, новых сеньоров и крепостных, огромные состояния и нищету, а также ведет к парцелляции суверенитета, когда немногочисленные богачи отгораживаются от огромных масс бедняков, ютящихся на заброшенных окраинах. Избежать этого — противостоять этому — может только организованная политическая борьба за коммунизм.
джерело
~
Цікаве до теми: