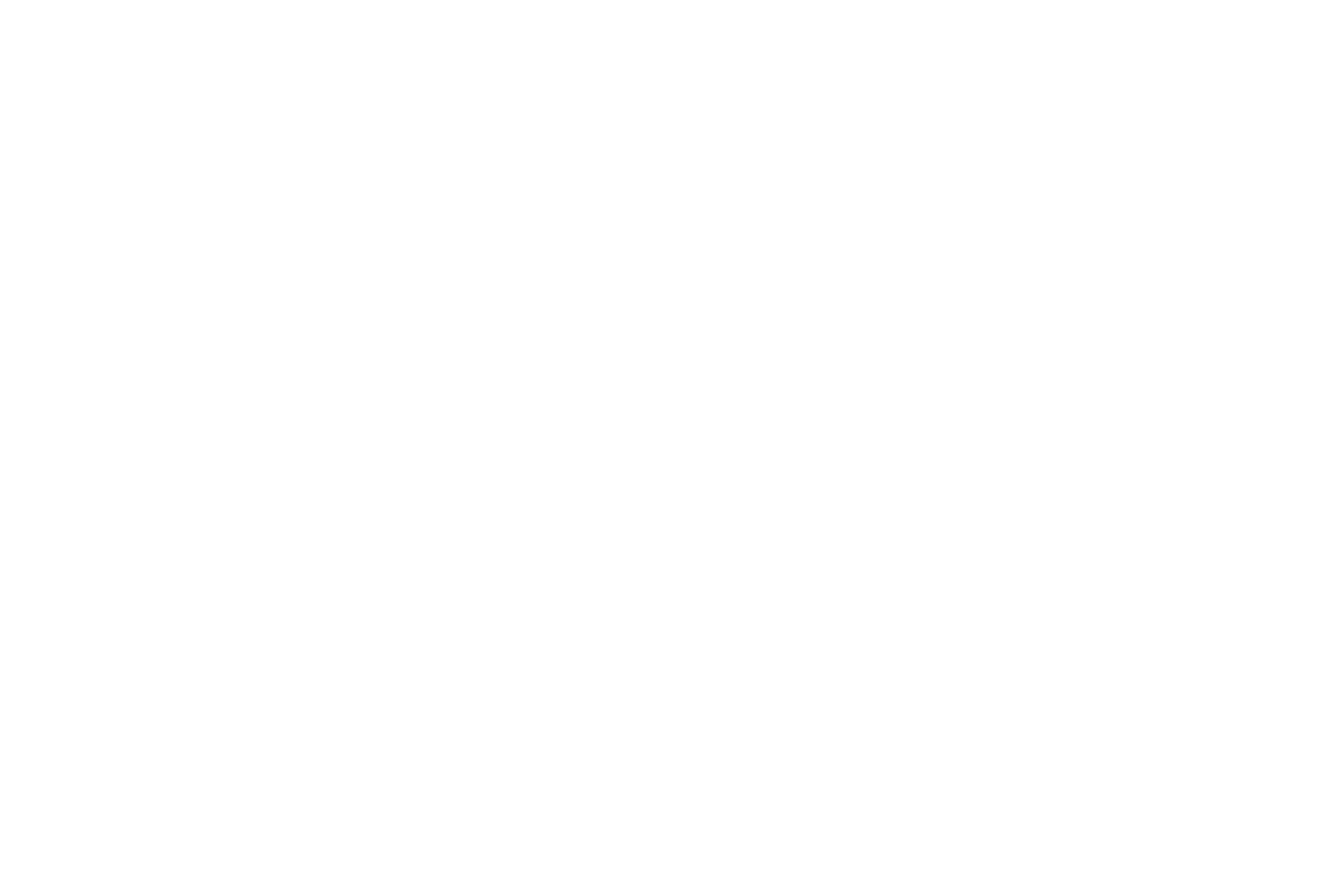© 2019 Strategic Group.Media
США—КИТАЙ:
ИМЭМО
МНОГОВЕКТОРНОСТЬ "ТОРГОВОЙ ВОЙНЫ"
- В. Михеев
академик РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН - С. Луконин
кандидат экономических наук, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
В конце 2018 — первой половине 2019 г. торговое противоборство Китая и США, которое глобальные СМИ называют "торговой войной", а китайское руководство более мягко — "торговые трения", оказывает воздействие практически на все стороны идейно-политического, социально- экономического и военного развития КНР, а также на его внешнюю политику.
На рубеже 2018—2019 гг. торговое противоборство между двумя странами вступило в новую, неоднозначную фазу развития. С одной стороны, происходит интернационализация противостояния, в которое прямо или косвенно вовлекаются страны АСЕАН, АТЭС и др. Расширяются поля противоборства — это уже не только, собственно, экономика, но и военно-политическая сфера. В фокус событий попадают соперничество США и Китая за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе, в Южно-Китайском море, наращивание КНР производства современных вооружений, активная китайская политика по освоению космоса, интенсификация политического и экономического сотрудничества Пекина с максимально возможным количеством игроков в Европе, Африке, Латинской Америке и т.д. Под ударом оказываются известные персоналии, — например, финансовый директор китайской компании "Хуавэй" и по совместительству дочь основателя компании, арестованная в Канаде по запросу США.
Вместе с тем 1 декабря 2018 г. на Саммите G20 в Аргентине лидеры США и КНР договорились о своего рода 90-дневном "перемирии", в течение которого стороны воздерживались от повышения торговых тарифов и иных ограничительных мер. Предполагалось, что за это время Пекин и Вашингтон должны будут достигнуть компромисса по основным экономическим вопросам, по которым у Соединенных Штатов есть претензии к Китаю — обеспечение более легкого входа американского капитала на китайский рынок, защита интеллектуальной собственности американских компаний в КНР, защита американского рынка от, в американской интерпретации, кибератак и технологического шпионажа со стороны китайцев. В начале 2019 г. Пекин и Вашингтон демонстрировали готовность к интенсификации экономического диалога, организуя ряд встреч представителей высокого уровня.
На современном этапе торгового противостояния обозначилась тактика поведения сторон, по крайне мере, на время 90-дневного "перемирия". Для Пекина — это готовность к экономическим компромиссам, но неприемлемость "торговли" базовыми идейно-политическими интересами. Китай, с одной стороны, наступательно демонстрирует жесткость и непримиримость своей позиции по главным стратегическим направлениям — право на модернизацию вооруженных сил, доминирование в Южно-Китайском море и Индийском океане, право на собственную трактовку прав человека и т.д. Показательно в этом смысле, что Пекин начал 2019 год с вызвавших настороженность Вашингтона призывов Си Цзиньпина "укреплять вооруженные силы и быть готовым к войне".
С другой стороны, Пекин дает понять, что готов идти на приемлемые уступки в сфере экономики. Например, с 1 ноября 2018 г. в КНР были снижены импортные пошлины более чем на 1.5 тыс. ввозимых в страну товаров. В декабре 2018 г. Китай, отвечая на требования Соединенных Штатов, создал Апелляционный суд по правам интеллектуальной собственности. Китайские "официальные" экономисты говорят о возможности достижения итогового компромисса.
В то же время военную сферу двусторонних отношений, несмотря на нарастающую здесь сложность, Пекин в пропагандистском плане интерпретирует как "главный канал стратегического партнерства" с Вашингтоном в условиях "торговых трений". С мая по декабрь 2018 г. состоялось пять встреч министров обороны Китая и США, в ноябре 2018 г. в Шанхае прошли совместные военные учения стран по сотрудничеству в спасении на море.
Свои "две стороны" присутствуют и в американском подходе. Соединенные Штаты усиливают давление на Китай, критикуя его за "неправомерную" военно-морскую активность, за объявленные Пекином в ноябре 2018 г. амбициозные планы создания современных ракетно-космических войск, что вновь подтверждает статус Китая (вместе с Россией) как "главной военной цели" США. Дополнительное напряжение в отношения вносит активизация в конце 2018 г. американо-тайваньских военных связей.
В то же время Трамп показал, что готов к торговому примирению с Пекином, но на тех условиях, которые отвечают американским интересам — "интересам американского налогоплательщика и избирателя". При этом президент США использует своего рода тактику биржевого брокера, перенося ее на внешнюю политику: обостряет отношения с Китаем и "снимает" с этого внутриполитические дивиденды, затем идет на частичную нормализацию отношений и снова пытается снять дивиденды.
В отношении ближайшего будущего в китайской и американской прессе доминируют идеи умеренного оптимизма: в итоге стороны достигнут "какого-то, но не всеобъемлющего", и все же соглашения.
Наряду с этим появляются и более пессимистические оценки перспективы. Ряд китайских экспертов и руководителей крупного бизнеса, среди которых — один из крупнейших мировых миллиардеров, основатель компании Alibaba Джек Ма, считает, что нынешнее противоборство Китая и США нельзя сводить к тарифным и иным экономическим разногласиям. Оно носит более глубокий, системный характер и будет только нарастать. По мнению представителей этой политологической школы, которая, впрочем, повторяет концептуальные заходы авторов старой, но в последнее время подзабытой, теории так называемого "Пекинского консенсуса" (в экономике— рынок, в политике— авторитаризм), мир ждет нарастание конфронтации и соперничества за глобальное влияние между англо-саксонской и китайской моделью капитализма. Такой сценарий, по мнению этих авторов, не позволяет рассчитывать на стратегические договоренности Пекина и Вашингтона.
Сторонники пессимистичного видения ситуации в США полагают, что Пекин никогда не пойдет на принципиальные уступки, которые хотел бы получить Вашингтон.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что существуют и объективные пределы ухудшения двусторонних отношений, завязанные на глубокую экономическую взаимозависимость двух стран. Последний пример: в начале января 2019 г. Китай предоставил огромные производственные площади под Шанхаем американской компании Teslaдля развертывания производства электромобилей, в том числе с участием китайских производителей комплектующих и с учетом долгосрочной заинтересованности КНР в борьбе с загрязнением окружающей среды.
Под воздействием противоборства с Соединенными Штатами прошло и главное идейно-пропагандистское событие 2018 г. — торжественное празднование в декабре 40-летия начала рыночных реформ в Китае. Китайское руководство использовало этот повод для упрочения политической и идеологической власти партии в "новых условиях" — условиях ухудшения отношений с США. 18 декабря 2018 г. в своем торжественном выступлении Си Цзиньпин впервые за последние годы повторил старый тезис Мао Цзэдуна о том, что "партия руководит всем - Югом, Севером, Центром..." и т.д. В комментариях китайского пропагандистского аппарата это было использовано и в качестве исторического обоснования монополии Си на власть, и как ответ тем, кто на фоне экономических трудностей и социального недовольства ростом имущественного расслоения, связываемого в "новых условиях" в числе прочего и с "торговыми трениями" с Вашингтоном, пытается возвратиться к маоистским идеям равенства и командной экономики. Это ответ, который должен подчеркнуть неизменность курса КПК на продолжение рыночных реформ и стать своего рода сигналом мировому сообществу: Китай не отступит от рыночных реформ.
В политической сфере Си продолжает цементировать свое будущее как руководителя. В начале 2019 г. он проводит ряд важных кадровых перестановок, выдвигая на руководящие позиции на уровне заместителей министров и заместителей руководителей провинций молодые кадры (1970-х годов рождения). Это может означать, что Си хочет создать обязанный и преданный лично ему кадровый эшелон поддержки, который позволит ему сохранить контроль над партией и страной и после ухода с поста Генсека ЦК КПК в 2022 г., но при сохранении пока еще в большей мере церемониального кресла Председателя КНР.
Влияние "торговых трений" на китайскую экономику можно охарактеризовать как умеренно негативное, с тенденцией к усилению негатива: в конце 2018 г. ВВП Китая в 2018 г. вырос на солидные 6.6%, почти достигнув отметки 10 тыс. долл, в расчете на душу населения. В то же время ряд китайских и гонконгских экспертов отмечают потерю от 0.1 до 0.3 п.п. прироста ВВП по фактору торговых "трений" с Соединенными Штатами. Ряд американских, японских, корейских исследователей "вбрасывают" в мировое информационное пространство идеи о скорой "жесткой посадке" китайской экономики. В пользу такого сценария могут говорить и "ожидания худшего" в среде среднего и мелкого бизнеса КНР, завязанного на США, и недовыполнение на 0.2—0.3 п.п. от ВВП плана по ассигнованиям на развитие НИОКР Китая, и рост недовольства усиливающимся социальным неравенством, приведшим в конце 2018 г. к всплеску выступлений студенческого сообщества, в том числе и в Пекинском Университете, с лозунгами "вернуться к идеям Мао" (имея в виду уравнительные и изоляционные аспекты).
Вместе с тем, как представляется, "потенциал выживаемости" китайской экономики достаточно силен. Золотовалютные резервы страны выросли в конце 2018 г. до более чем 3 трлн долл. Стратегия китайской инициативы "Один пояс, один путь" делает Китай все более привлекательным для развивающихся стран, а его готовность вкладывать средства в инфраструктуру и крупный бизнес в Европе — и для стран развитых.
В то же время "потенциал развития" КНР может понести существенные потери в случае продолжения США жесткой ограничительной линии — даже не столько по тарифным темам, сколько по вопросам экспансии китайского капитала на американский рынок и доступа Китая к новейшим американским технологиям.
На рубеже 2018—2019 гг. торговое противоборство между двумя странами вступило в новую, неоднозначную фазу развития. С одной стороны, происходит интернационализация противостояния, в которое прямо или косвенно вовлекаются страны АСЕАН, АТЭС и др. Расширяются поля противоборства — это уже не только, собственно, экономика, но и военно-политическая сфера. В фокус событий попадают соперничество США и Китая за доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе, в Южно-Китайском море, наращивание КНР производства современных вооружений, активная китайская политика по освоению космоса, интенсификация политического и экономического сотрудничества Пекина с максимально возможным количеством игроков в Европе, Африке, Латинской Америке и т.д. Под ударом оказываются известные персоналии, — например, финансовый директор китайской компании "Хуавэй" и по совместительству дочь основателя компании, арестованная в Канаде по запросу США.
Вместе с тем 1 декабря 2018 г. на Саммите G20 в Аргентине лидеры США и КНР договорились о своего рода 90-дневном "перемирии", в течение которого стороны воздерживались от повышения торговых тарифов и иных ограничительных мер. Предполагалось, что за это время Пекин и Вашингтон должны будут достигнуть компромисса по основным экономическим вопросам, по которым у Соединенных Штатов есть претензии к Китаю — обеспечение более легкого входа американского капитала на китайский рынок, защита интеллектуальной собственности американских компаний в КНР, защита американского рынка от, в американской интерпретации, кибератак и технологического шпионажа со стороны китайцев. В начале 2019 г. Пекин и Вашингтон демонстрировали готовность к интенсификации экономического диалога, организуя ряд встреч представителей высокого уровня.
На современном этапе торгового противостояния обозначилась тактика поведения сторон, по крайне мере, на время 90-дневного "перемирия". Для Пекина — это готовность к экономическим компромиссам, но неприемлемость "торговли" базовыми идейно-политическими интересами. Китай, с одной стороны, наступательно демонстрирует жесткость и непримиримость своей позиции по главным стратегическим направлениям — право на модернизацию вооруженных сил, доминирование в Южно-Китайском море и Индийском океане, право на собственную трактовку прав человека и т.д. Показательно в этом смысле, что Пекин начал 2019 год с вызвавших настороженность Вашингтона призывов Си Цзиньпина "укреплять вооруженные силы и быть готовым к войне".
С другой стороны, Пекин дает понять, что готов идти на приемлемые уступки в сфере экономики. Например, с 1 ноября 2018 г. в КНР были снижены импортные пошлины более чем на 1.5 тыс. ввозимых в страну товаров. В декабре 2018 г. Китай, отвечая на требования Соединенных Штатов, создал Апелляционный суд по правам интеллектуальной собственности. Китайские "официальные" экономисты говорят о возможности достижения итогового компромисса.
В то же время военную сферу двусторонних отношений, несмотря на нарастающую здесь сложность, Пекин в пропагандистском плане интерпретирует как "главный канал стратегического партнерства" с Вашингтоном в условиях "торговых трений". С мая по декабрь 2018 г. состоялось пять встреч министров обороны Китая и США, в ноябре 2018 г. в Шанхае прошли совместные военные учения стран по сотрудничеству в спасении на море.
Свои "две стороны" присутствуют и в американском подходе. Соединенные Штаты усиливают давление на Китай, критикуя его за "неправомерную" военно-морскую активность, за объявленные Пекином в ноябре 2018 г. амбициозные планы создания современных ракетно-космических войск, что вновь подтверждает статус Китая (вместе с Россией) как "главной военной цели" США. Дополнительное напряжение в отношения вносит активизация в конце 2018 г. американо-тайваньских военных связей.
В то же время Трамп показал, что готов к торговому примирению с Пекином, но на тех условиях, которые отвечают американским интересам — "интересам американского налогоплательщика и избирателя". При этом президент США использует своего рода тактику биржевого брокера, перенося ее на внешнюю политику: обостряет отношения с Китаем и "снимает" с этого внутриполитические дивиденды, затем идет на частичную нормализацию отношений и снова пытается снять дивиденды.
В отношении ближайшего будущего в китайской и американской прессе доминируют идеи умеренного оптимизма: в итоге стороны достигнут "какого-то, но не всеобъемлющего", и все же соглашения.
Наряду с этим появляются и более пессимистические оценки перспективы. Ряд китайских экспертов и руководителей крупного бизнеса, среди которых — один из крупнейших мировых миллиардеров, основатель компании Alibaba Джек Ма, считает, что нынешнее противоборство Китая и США нельзя сводить к тарифным и иным экономическим разногласиям. Оно носит более глубокий, системный характер и будет только нарастать. По мнению представителей этой политологической школы, которая, впрочем, повторяет концептуальные заходы авторов старой, но в последнее время подзабытой, теории так называемого "Пекинского консенсуса" (в экономике— рынок, в политике— авторитаризм), мир ждет нарастание конфронтации и соперничества за глобальное влияние между англо-саксонской и китайской моделью капитализма. Такой сценарий, по мнению этих авторов, не позволяет рассчитывать на стратегические договоренности Пекина и Вашингтона.
Сторонники пессимистичного видения ситуации в США полагают, что Пекин никогда не пойдет на принципиальные уступки, которые хотел бы получить Вашингтон.
Вместе с тем нельзя не учитывать, что существуют и объективные пределы ухудшения двусторонних отношений, завязанные на глубокую экономическую взаимозависимость двух стран. Последний пример: в начале января 2019 г. Китай предоставил огромные производственные площади под Шанхаем американской компании Teslaдля развертывания производства электромобилей, в том числе с участием китайских производителей комплектующих и с учетом долгосрочной заинтересованности КНР в борьбе с загрязнением окружающей среды.
Под воздействием противоборства с Соединенными Штатами прошло и главное идейно-пропагандистское событие 2018 г. — торжественное празднование в декабре 40-летия начала рыночных реформ в Китае. Китайское руководство использовало этот повод для упрочения политической и идеологической власти партии в "новых условиях" — условиях ухудшения отношений с США. 18 декабря 2018 г. в своем торжественном выступлении Си Цзиньпин впервые за последние годы повторил старый тезис Мао Цзэдуна о том, что "партия руководит всем - Югом, Севером, Центром..." и т.д. В комментариях китайского пропагандистского аппарата это было использовано и в качестве исторического обоснования монополии Си на власть, и как ответ тем, кто на фоне экономических трудностей и социального недовольства ростом имущественного расслоения, связываемого в "новых условиях" в числе прочего и с "торговыми трениями" с Вашингтоном, пытается возвратиться к маоистским идеям равенства и командной экономики. Это ответ, который должен подчеркнуть неизменность курса КПК на продолжение рыночных реформ и стать своего рода сигналом мировому сообществу: Китай не отступит от рыночных реформ.
В политической сфере Си продолжает цементировать свое будущее как руководителя. В начале 2019 г. он проводит ряд важных кадровых перестановок, выдвигая на руководящие позиции на уровне заместителей министров и заместителей руководителей провинций молодые кадры (1970-х годов рождения). Это может означать, что Си хочет создать обязанный и преданный лично ему кадровый эшелон поддержки, который позволит ему сохранить контроль над партией и страной и после ухода с поста Генсека ЦК КПК в 2022 г., но при сохранении пока еще в большей мере церемониального кресла Председателя КНР.
Влияние "торговых трений" на китайскую экономику можно охарактеризовать как умеренно негативное, с тенденцией к усилению негатива: в конце 2018 г. ВВП Китая в 2018 г. вырос на солидные 6.6%, почти достигнув отметки 10 тыс. долл, в расчете на душу населения. В то же время ряд китайских и гонконгских экспертов отмечают потерю от 0.1 до 0.3 п.п. прироста ВВП по фактору торговых "трений" с Соединенными Штатами. Ряд американских, японских, корейских исследователей "вбрасывают" в мировое информационное пространство идеи о скорой "жесткой посадке" китайской экономики. В пользу такого сценария могут говорить и "ожидания худшего" в среде среднего и мелкого бизнеса КНР, завязанного на США, и недовыполнение на 0.2—0.3 п.п. от ВВП плана по ассигнованиям на развитие НИОКР Китая, и рост недовольства усиливающимся социальным неравенством, приведшим в конце 2018 г. к всплеску выступлений студенческого сообщества, в том числе и в Пекинском Университете, с лозунгами "вернуться к идеям Мао" (имея в виду уравнительные и изоляционные аспекты).
Вместе с тем, как представляется, "потенциал выживаемости" китайской экономики достаточно силен. Золотовалютные резервы страны выросли в конце 2018 г. до более чем 3 трлн долл. Стратегия китайской инициативы "Один пояс, один путь" делает Китай все более привлекательным для развивающихся стран, а его готовность вкладывать средства в инфраструктуру и крупный бизнес в Европе — и для стран развитых.
В то же время "потенциал развития" КНР может понести существенные потери в случае продолжения США жесткой ограничительной линии — даже не столько по тарифным темам, сколько по вопросам экспансии китайского капитала на американский рынок и доступа Китая к новейшим американским технологиям.
ТАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ США И КИТАЯ
В "ТОРГОВОЙ ВОЙНЕ"
В "торговой войне" Китай продолжает придерживаться тактики ненападения. Политика китайских властей реактивная, то есть Пекин вводит ограничительные меры (например, повышает пошлины) только после соответствующих действий со стороны американских властей в отношении китайских товаров (табл.).
На официальном и неофициальном уровнях (хотя уже и с плохо скрываемым раздражением)
На официальном и неофициальном уровнях (хотя уже и с плохо скрываемым раздражением)
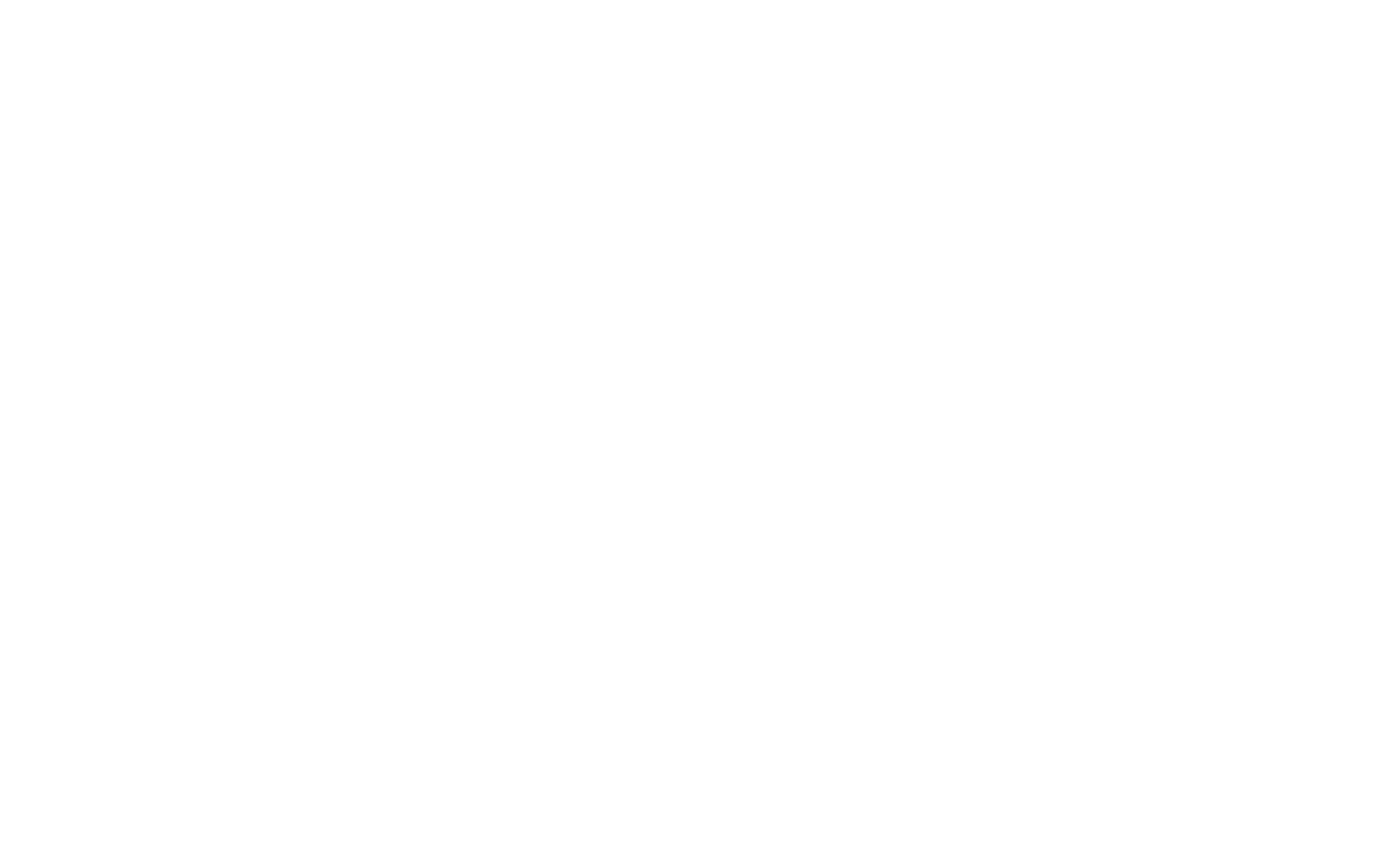

Составлено авторами по сообщениям Министерства торговли США, Министерства коммерции КНР, американских и китайских СМИ.
КНР продолжает демонстрировать "добрую волю" и стремление к разрешению проблем в торгово-экономических отношениях с США путем переговоров.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на "трения", объем китайско-американского торгового оборота продолжает расти. Кроме того, по итогам 2018 г., профицит Китая в торговле с Соединенными Штатами, по предварительным данным, увеличился на 10% по сравнению с 2017 г. и составил более 410 млрд долл.
В свете торгово-экономических "трений" Пекин рассматривает и новое экономическое трехстороннее Соглашение США, Канады и Мексики. Особенную обеспокоенность китайских властей вызывает статья документа, в соответствии с которой любая из трех стран-участниц может заблокировать его действие, если другая сторона или стороны сотрудничают с нерыночными экономиками. Китай до сих пор имеет в Соединенных Штатах именно такой статус. Фактически сегодня США получили возможность блокировать китайские торговые потоки, направляемые туда в обход санкций или повышенных пошлин через Канаду или Мексику. Первым последствием нового соглашения стала приостановка работы по заключению договора о свободной торговле между Канадой и Китаем (переговоры начались в 2016 г., КНР является вторым по значимости торговым партнером Канады после США). Аналогичные новому трехстороннему Североамериканскому пакту договоры Соединенные Штаты планируют заключить с ЕС и Японией.
Здесь, правда, необходимо отметить, что не только США, но и сам Китай часто прибегает к политике ограничений в торговле по политическим мотивам. Например, после ареста капитана китайского рыболовецкого судна в Японии в 2010 г. Пекин ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов в эту страну; в том же году ограничил импорт лосося из Норвегии после присуждения Нобелевской премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо; в 2012 г. ввел ограничения на импорт бананов с Филиппин после эскалации напряженности в Южно-Китайском море; в 2017 г. организовал бойкот южнокорейским магазинам Lotte в Китае после развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Поэтому и американские политически мотивированные торговые ограничения не воспринимаются китайским руководством как что-то "из ряда вон выходящее".
Важно подчеркнуть, что, несмотря на "трения", объем китайско-американского торгового оборота продолжает расти. Кроме того, по итогам 2018 г., профицит Китая в торговле с Соединенными Штатами, по предварительным данным, увеличился на 10% по сравнению с 2017 г. и составил более 410 млрд долл.
В свете торгово-экономических "трений" Пекин рассматривает и новое экономическое трехстороннее Соглашение США, Канады и Мексики. Особенную обеспокоенность китайских властей вызывает статья документа, в соответствии с которой любая из трех стран-участниц может заблокировать его действие, если другая сторона или стороны сотрудничают с нерыночными экономиками. Китай до сих пор имеет в Соединенных Штатах именно такой статус. Фактически сегодня США получили возможность блокировать китайские торговые потоки, направляемые туда в обход санкций или повышенных пошлин через Канаду или Мексику. Первым последствием нового соглашения стала приостановка работы по заключению договора о свободной торговле между Канадой и Китаем (переговоры начались в 2016 г., КНР является вторым по значимости торговым партнером Канады после США). Аналогичные новому трехстороннему Североамериканскому пакту договоры Соединенные Штаты планируют заключить с ЕС и Японией.
Здесь, правда, необходимо отметить, что не только США, но и сам Китай часто прибегает к политике ограничений в торговле по политическим мотивам. Например, после ареста капитана китайского рыболовецкого судна в Японии в 2010 г. Пекин ввел запрет на экспорт редкоземельных металлов в эту страну; в том же году ограничил импорт лосося из Норвегии после присуждения Нобелевской премии мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо; в 2012 г. ввел ограничения на импорт бананов с Филиппин после эскалации напряженности в Южно-Китайском море; в 2017 г. организовал бойкот южнокорейским магазинам Lotte в Китае после развертывания системы противоракетной обороны THAAD в Южной Корее. Поэтому и американские политически мотивированные торговые ограничения не воспринимаются китайским руководством как что-то "из ряда вон выходящее".
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТВЕТ КИТАЯ
Понимая уязвимость своей экономики, власти Китая предпринимают упреждающие действия для поддержания экономического роста. В течение 2018 г. Народный банк КНР несколько раз снижал требования к резервированию средств банков, что, по мнению экспертов, позволит дополнительно влить в китайскую экономику около 105 млрд долл, в 2019 г.
Министерство финансов КНР разрабатывает положение о частичном освобождении иностранных и китайских компаний (прежде всего экспортеров) от уплаты налога на прибыль. Ранее уже было объявлено о предоставлении льгот по уплате этого налога, если часть средств, полученных в качестве прибыли, инвестируется в какие-либо проекты на территории Китая (за исключением реинвестирования в ценные бумаги). По заявлению Министерства финансов, к категории прибыли относятся и доходы от вложений в акционерный капитал, включая дивиденды и корпоративные бонусы. Интересно, что это положение вступило в силу задним числом — 1 января 2018 г., то есть компании имеют право на перерасчет уже уплаченных платежей.
С 1 ноября 2018 г. Китай снизил импортные таможенные пошлины на отдельные товарные позиции. Изменения коснулись 1585 видов товаров (по заявлению китайских властей— это около 19% от общего числа облагаемых пошлинами товаров). Средний уровень пошлин снизился с 10.5 до 7.8%.
На фоне ухудшения отношений с США и нарастания неопределенностей большую "разнонаправленность" приобретает артикуляция лидерами КНР экономической стратегии.
Так, во время своего сентябрьского официального визита на Северо-Восток Китая Си Цзиньпин — вопреки провозглашенной линии на приватизационную реформу госсобственности — заявил о необходимости поддержки китайских государственных компаний (то есть помочь им стать больше и сильнее).В этом же ключе выступил и бывший председатель китайской государственной компании City Group Кун Дань, отметив, что китайско-американские "трения" — это соперничество между двумя экономическими системами: американской либерально-рыночной демократией и китайской системой, где ведущую роль играет государство.
Одновременно премьер Госсовета Ли Кэцзян во время своего визита в восточную часть страны подчеркнул, что необходимо стимулировать предоставление кредитов малым и средним китайским предприятиям и "не мешать им работать". Ли также заявил о необходимости снижения стоимости и упрощения таможенных процедур.
Продолжают осуществляться разнообразные меры по государственной поддержке экономики. Госсовет КНР озвучил планы по реализации инфраструктурных проектов в сельской местности общим объемом более 190 млрд долл. В дополнение был опубликовал план по улучшению сельской экономики на период с 2018 по 2022 г., в который вошли самые разнообразные проекты: от переработки мусора до оптимизации так называемого коэффициента Энгеля (доля расходов на еду в общем доходе семьи). Китайские власти также планируют повысить потребительский потенциал в сферах туризма, медицины и образования (например, региональные власти получили "'рекомендации " о снижении цен на входные билеты для увеличения притока туристов к достопримечательностям).
Пострадавшая от американских санкций китайская ZTE "совершенно неожиданно" выиграла ряд торгов на поставку оборудования трем китайским операторам мобильной связи. China Mobile закупит GPON устройства, China Unicom— электронные платы и коммутаторы, ChinaTelecom— коммутаторы.
Параллельно Китай заявил о готовности участвовать в реализации планов России, Великобритании, Франции и Германии по созданию специального финансового механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций.
В контексте информационного сопровождения "китайской контратаки" можно рассматривать опубликование КНР так называемой Белой книги, посвященной торгово-экономическим "трениям" с США.
Министерство финансов КНР разрабатывает положение о частичном освобождении иностранных и китайских компаний (прежде всего экспортеров) от уплаты налога на прибыль. Ранее уже было объявлено о предоставлении льгот по уплате этого налога, если часть средств, полученных в качестве прибыли, инвестируется в какие-либо проекты на территории Китая (за исключением реинвестирования в ценные бумаги). По заявлению Министерства финансов, к категории прибыли относятся и доходы от вложений в акционерный капитал, включая дивиденды и корпоративные бонусы. Интересно, что это положение вступило в силу задним числом — 1 января 2018 г., то есть компании имеют право на перерасчет уже уплаченных платежей.
С 1 ноября 2018 г. Китай снизил импортные таможенные пошлины на отдельные товарные позиции. Изменения коснулись 1585 видов товаров (по заявлению китайских властей— это около 19% от общего числа облагаемых пошлинами товаров). Средний уровень пошлин снизился с 10.5 до 7.8%.
На фоне ухудшения отношений с США и нарастания неопределенностей большую "разнонаправленность" приобретает артикуляция лидерами КНР экономической стратегии.
Так, во время своего сентябрьского официального визита на Северо-Восток Китая Си Цзиньпин — вопреки провозглашенной линии на приватизационную реформу госсобственности — заявил о необходимости поддержки китайских государственных компаний (то есть помочь им стать больше и сильнее).В этом же ключе выступил и бывший председатель китайской государственной компании City Group Кун Дань, отметив, что китайско-американские "трения" — это соперничество между двумя экономическими системами: американской либерально-рыночной демократией и китайской системой, где ведущую роль играет государство.
Одновременно премьер Госсовета Ли Кэцзян во время своего визита в восточную часть страны подчеркнул, что необходимо стимулировать предоставление кредитов малым и средним китайским предприятиям и "не мешать им работать". Ли также заявил о необходимости снижения стоимости и упрощения таможенных процедур.
Продолжают осуществляться разнообразные меры по государственной поддержке экономики. Госсовет КНР озвучил планы по реализации инфраструктурных проектов в сельской местности общим объемом более 190 млрд долл. В дополнение был опубликовал план по улучшению сельской экономики на период с 2018 по 2022 г., в который вошли самые разнообразные проекты: от переработки мусора до оптимизации так называемого коэффициента Энгеля (доля расходов на еду в общем доходе семьи). Китайские власти также планируют повысить потребительский потенциал в сферах туризма, медицины и образования (например, региональные власти получили "'рекомендации " о снижении цен на входные билеты для увеличения притока туристов к достопримечательностям).
Пострадавшая от американских санкций китайская ZTE "совершенно неожиданно" выиграла ряд торгов на поставку оборудования трем китайским операторам мобильной связи. China Mobile закупит GPON устройства, China Unicom— электронные платы и коммутаторы, ChinaTelecom— коммутаторы.
Параллельно Китай заявил о готовности участвовать в реализации планов России, Великобритании, Франции и Германии по созданию специального финансового механизма для расчетов с Ираном в обход американских санкций.
В контексте информационного сопровождения "китайской контратаки" можно рассматривать опубликование КНР так называемой Белой книги, посвященной торгово-экономическим "трениям" с США.
Ее основные положения сводятся к следующему:
- Китай против торгово-экономической войны, развязанной США, но не боится сложившейся ситуации и ответит с достоинством. Он по-прежнему готов к переговорам, но только при условии взаимного уважения и соблюдения договоренностей (намек на то, что с "приставленным к горлу ножом " переговоры вести не будет). Пекин также стремится к продолжению переговоров о заключении китайско-американского соглашения об инвестициях и свободной торговле.
- КНР поддерживает ВТО и выступает против протекционизма.
- Китайские власти строго придерживаются норм защиты прав интеллектуальной собственности и будут предпринимать дальнейшие усилия к улучшению регулирования данной сферы в стране.
- КНР беспристрастно относится к китайским и иностранным компаниям и будет защищать их интересы.
- Пекин придерживается курса на открытость.
- Китай выступает за развитие сотрудничества с ЕС (продолжение переговоров о заключении китайско-европейского инвестиционного соглашения), за ускорение переговорного процесса по созданию зоны свободной торговли между КНР, Японией и Южной Кореей, за углубление сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс, один путь".
АТАКА США
НА "ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ"
НА "ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ"
Глобализация американо-китайского торгового противостояния затрагивает главную на сегодня внешнеэкономическую китайскую стратегию "Пояса и Пути". В последнее время в мировых СМИ появляется все больше сообщений негативного и пугающего толка о проблемах реализации проектов "Пояса и Пути" в странах - партнерах КНР. Например, МВФ заявляет о риске попадания этих стран в так называемую "долговую ловушку" к Китаю, который, видимо, "не преминет ею воспользоваться", чтобы "заполучить эти страны в свои вассалы".
Публикуется много статей, особенно в западных средствах массовой информации, о возникновении так называемого нового "китайского колониализма" — пока преимущественно в государствах Африки, но, по мнению авторов, на очереди — страны Латинской Америки и Центральной Азии. Власти ведущих европейских государств заявляют о политике КНР, направленной на разрушение единства ЕС, из-за его активности в странах Восточной Европы.
В международных СМИ целенаправленно муссируется информация негативного содержания о замораживании проектов, реализуемых в рамках китайской инициативы в Малайзии; о полуторамиллиардной задолженности китайским финансовым институтам Мальдивами; о передаче Китаю порта Хамбантота на Шри-Ланке; об отказе Сьерра-Леоне от строительства аэропорта на китайские деньги; о том, что Пакистан должен будет "принудительно выплатить" КНР около 40 млрд долл, в "сжатые сроки" за проекты, реализованные китайскими компаниями и на китайские деньги в рамках строительства экономического коридора Китай-Пакистан и т.д.
Международные эксперты обвиняют КНР в том, что выданные китайскими финансовыми институтами кредиты на проекты "Пояса и Пути" слишком дороги (китайские кредиты выдаются в среднем под 5—6% годовых, а, например, кредиты международных банков — под 2—3%),что в целом эти проекты "не соответствуют международным стандартам" финансовой прозрачности, экологической и технологической безопасности, малоэффективны, а при их реализации задействованы только китайские компании и китайская рабочая сила.
В последнее время западными "мозговыми центрами" был выпущен ряд критических докладов на тему "Пояса и Пути", например, американским C4ADS,Немецким институтом изучения Китая им. Герхарда Меркатора, Агентством по внешнеэкономической деятельности ФРГ совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии. Свой негативный вклад внесли СМИ и исследователи из Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Если отбросить политическую и идеологическую составляющие, то лейтмотивом практически всех сообщений в средствах массовой информации и аналитических докладов является, с одной стороны, опасение усиления политического влияния Китая и его военного присутствия в регионе в результате реализации экономических проектов, с другой, — недовольство закрытостью проектов для местного бизнеса, поставщиков оборудования, материалов и рабочей силы.
Публикуется много статей, особенно в западных средствах массовой информации, о возникновении так называемого нового "китайского колониализма" — пока преимущественно в государствах Африки, но, по мнению авторов, на очереди — страны Латинской Америки и Центральной Азии. Власти ведущих европейских государств заявляют о политике КНР, направленной на разрушение единства ЕС, из-за его активности в странах Восточной Европы.
В международных СМИ целенаправленно муссируется информация негативного содержания о замораживании проектов, реализуемых в рамках китайской инициативы в Малайзии; о полуторамиллиардной задолженности китайским финансовым институтам Мальдивами; о передаче Китаю порта Хамбантота на Шри-Ланке; об отказе Сьерра-Леоне от строительства аэропорта на китайские деньги; о том, что Пакистан должен будет "принудительно выплатить" КНР около 40 млрд долл, в "сжатые сроки" за проекты, реализованные китайскими компаниями и на китайские деньги в рамках строительства экономического коридора Китай-Пакистан и т.д.
Международные эксперты обвиняют КНР в том, что выданные китайскими финансовыми институтами кредиты на проекты "Пояса и Пути" слишком дороги (китайские кредиты выдаются в среднем под 5—6% годовых, а, например, кредиты международных банков — под 2—3%),что в целом эти проекты "не соответствуют международным стандартам" финансовой прозрачности, экологической и технологической безопасности, малоэффективны, а при их реализации задействованы только китайские компании и китайская рабочая сила.
В последнее время западными "мозговыми центрами" был выпущен ряд критических докладов на тему "Пояса и Пути", например, американским C4ADS,Немецким институтом изучения Китая им. Герхарда Меркатора, Агентством по внешнеэкономической деятельности ФРГ совместно с Объединением торгово-промышленных палат Германии. Свой негативный вклад внесли СМИ и исследователи из Индии и стран Юго-Восточной Азии.
Если отбросить политическую и идеологическую составляющие, то лейтмотивом практически всех сообщений в средствах массовой информации и аналитических докладов является, с одной стороны, опасение усиления политического влияния Китая и его военного присутствия в регионе в результате реализации экономических проектов, с другой, — недовольство закрытостью проектов для местного бизнеса, поставщиков оборудования, материалов и рабочей силы.
"ПОЯС И ПУТЬ":
НОВОКИТАЙСКАЯ ЗАЩИТА
НОВОКИТАЙСКАЯ ЗАЩИТА
Широко используемый в отношении "Пояса и Пути" термин "долговая дипломатия" Китая впервые был "вброшен" в информационное пространство в середине 2018 г. — в разгар американо-китайской торговой войны. Термин был использован в докладе для Госдепартамента США, подготовленном Сэмом Паркером, который является научным сотрудником Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета.
"Символ" китайской "долговой дипломатии" — это уже упоминавшийся выше шриланкийский порт Хамбантота, который, справедливости ради нужно отметить, начал строится еще в 2008 г., задолго до появления инициативы "Пояса и Пути". Основными подрядчиками выступили китайские компании China Harbour Engineering Companyи Sino hydro Corporation. Финансирование строительства на 85% осуществлялось за счет кредита, предоставленного китайским Эксим банком. Порт начал частично функционировать в 2010 г., однако приносимая прибыль оказалась ниже ожидаемой.
В этих условиях власти Шри-Ланки подписали новое соглашение с китайской государственной компанией China Merchants Port Holdings Company, в соответствии с которым последняя получала 70%-ную долю в управляющей портом компании и сам порт, как отмечалось выше, в долгосрочный лизинг. Со своей стороны, китайская компания обязалась дополнительно инвестировать около 600 млн долл, в развитие порта.
Еще один пример, приписываемый экспертами "долговой дипломатии", — сообщение о строительстве двух мостов на Филиппинах (хотя на деле их сооружение будет осуществляться за счет китайских грантов, а не кредитов, то есть бесплатно для Филиппин, и они останутся в государственной собственности Филиппин).
Сегодня китайская контрпропаганда первостепенное внимание уделяет проблематике "долговой дипломатии" в Африке. Китайские эксперты полемизируют с оппонентами и пытаются обосновать сомнительность их тезисов о "китайском неоколониализме на Африканском континенте". Здесь выстраивается целая цепочка контрдоводов.
При этом китайцы используют данные и суждения самих американских авторов, — в частности, авторов доклада Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, согласно которому "основными кредиторами для африканских стран выступают западные финансовые институты". КНР же является таковым только для некоторых государств: Джибути, Конго, Замбии.
Китайцы делают акцент и на том аргументе своих западных оппонентов, что, например, согласно исследованию того же Института Шиллера, китайские инвестиции в странах Африки сосредоточены преимущественно в инфраструктурном строительстве, производстве и сельском хозяйстве и их объем значительно ниже американских и европейских инвестиций, которые работают в добыче полезных ископаемых и секторе услуг.
Рассматривая примеры пробуксовки проектов в рамках инициативы "Пояс и Путь" на примере Малайзии, китайские эксперты оттеняют предположение, что заморозка реализации трех проектов, осуществляемых китайскими компаниями и на китайские деньги (железная дорога, многопрофильный трубопровод и газопровод), может быть связана, скорее, с коррупцией, а не с опасением китайской экспансии. Со счетов фонда IMalaysia Development Berhad вдруг "исчезло" 4.5 млрд долл. Фонд был создан в 2009 г., участвовал в сделке с Малазийской стороны и, как пишут СМИ, предположительно связан с бывшим премьер-министром Наджибом Разаком, на счетах которого материализовались 700 млн долл. В качестве позитивного контрпримера китайцы отмечают, что сейчас в этой стране продолжается реализация более 10 крупных инфраструктурных проектов с участием китайских компаний и капитала общей стоимостью около 130 млрд долл.
По политически чувствительной теме Пакистана китайская контрпропаганда ссылается на то обстоятельство, что основными его кредиторами являются международные финансовые институты, а не Китай. По прогнозам МВФ, общая сумма долга Пакистана в 2019 г. превысит 95 млрд долл., а стоимость его обслуживания к 2022—2023 гг. составит примерно 31 млрд долл.
Активно используются Китаем и позитивные иностранные оценки его внешнеэкономической политики. В Пекине любят упоминать исследования одного из старейших американских университетов "Колледжа Вильгельма и Марии", согласно которым высока вероятность обеспечения "большей эффективности китайских инфраструктурных проектов при выравнивании уровня регионального экономического развития по сравнению с проектами западных стран". Китайская контрпропаганда особое внимание обращает и на другой посыл данного исследования, показывающий "четкую связь между строительством китайских инфраструктурных проектов и повышением темпов экономического развития стран, где они реализуются".
С точки зрения объективного анализа, в отношении китайской инициативы "Пояс и Путь", конечно, не должно возникать сомнений относительно ее благотворительности, однако и в ее критике со стороны западных стран и финансовых институтов присутствуют тезисы, с которыми трудно согласиться.
Во-первых, необходимо подчеркнуть, что ни Си Цзиньпин, ни какое-либо другое китайское официальное лицо не заявляли о "благотворительном характере китайской инициативы". "Пояс и Путь" направлен на поддержку развития прежде всего китайской экономики. Логично, что участие в китайской инициативе не может быть бесплатным. Принимать или не принимать условия игры — это вопрос тщательного изучения возможностей и рисков реализации того или иного проекта.
Во-вторых, можно согласиться с доводами китайцев о том, что обвинения в реализации КНР "политики неоколониализма", под которым традиционно понимается "несправедливое использование" развитыми странами природных ресурсов развивающихся стран, преувеличены. Китай прежде всего инвестирует свои средства в инфраструктуру, превращая последующее освоение природных ресурсов развивающихся стран в "сбалансированный и взаимовыгодный бизнес".
В-третьих, масштаб китайской "долговой дипломатии" также преувеличен, так как для стран Африки, Латинской Америки и Пакистана сегодня основными кредиторами продолжают выступать все же международные финансовые институты. КНР использует в качестве демонстрации преимущества своей политики и собственную тактику, отмечая, что, в отличие от международных институтов, Пекин не требует от стран-реципиентов изменений национальной экономической политики, — например, таких, как "открыть экономику", либерализовать курс национальной валюты, провести политические реформы и т.д.
В-четвертых, здесь возникает, скорее, философский вопрос - что лучше, например, для стран Африки: разрешить китайским компаниям создать какой-либо инфраструктурный проект и потом владеть им или не разрешить? При том что африканские страны и так перекредитованы, у них нет ни технической, ни финансовой возможности самостоятельно осуществить тот или иной крупный инфраструктурный проект, а международные финансовые институты начинают ограничивать их в помощи. Для сравнения: Шри-Ланка на протяжении длительного периода времени пыталась получить финансирование для строительства того же порта Хамбантота у Японии, Индии, МВФ и АБР, однако неизменно получала отказ, например, из-за "нарушений прав человека" (имелась в виду многолетняя война между властями страны и сепаратистским движением "Тигры освобождения Тамил-Илама'') или по причине предполагаемой коммерческой неэффективности проекта.
В-пятых, открытым остается вопрос: а есть ли принципиальные отличия в использовании национальных компаний при реализации проектов в рамках китайской инициативы и, например, какого-либо американского проекта - неужели в случае реализации того или иного варианта американского "Нового Шелкового пути" (как, например, американская программа экономического развития Афганистана "Новый Шелковый путь", озвученная в 2011г. Хилари Клинтон) в Афганистане строительством занимались бы афганские компании?
В-шестых, кажется сомнительной правомерность приписываемой КНР логики расчета "многоходовой комбинации" в отношении шриланкийского порта Хамбантота (других примеров пока нет). Получается, что китайские власти осуществили очень сложную и дорогую комбинацию: рассчитали, что порт будет коммерчески неэффективен, но убедили правительство Шри-Ланки в прибыльности порта на перспективу, затем дали кредит, убедились в том, что порт все же неэффективен, после чего китайская компания обязалась выплатить дополнительные 1.2 млрд долл, и заполучила порт в лизинг на 99 лет с обязательствами вложить еще 600 млн долл, в его развитие. Конечно, такое теоретически возможно, но в практическом плане выглядит неправдоподобным.
В-седьмых, одной из основных причин активизации критики китайской инициативы представляется обострение экономической конкуренции между США и КНР по мере роста китайской экономики. Соединенные Штаты готовы пытаться сдерживать стратегию "Пояс и Путь" и конкурировать с ней разными методами, в частности, рассматривая Азиатско-Тихоокеанский регион в более широком контексте Индо-Тихоокеанского региона с тем, чтобы создавать для себя концептуально-политические возможности подключения не только "старожилов" АТР Японии и Австралии, но и крупного игрока вне традиционного АТР — Индии (в формате так называемого четырехстороннего сотрудничества Quadrilateral Security Dialogue, QSD, QUAD) для сдерживания Китая и формирования в странах региона представления о возможности использования альтернативных каналов финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.
Стратегия начинает работать. Например, американская International Development Finance Corporation планирует увеличить финансирование реализации инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 60 млрд долл. Дополнительно власти США планируют выделить 25 млн долл, на продвижение здесь американских технологий. Американская Overseas Private Investment Согр.,японский Bank for International Cooperation и австралийская Export Finance and Insurance Согр. договорились совместно финансировать соответствующие проекты в АТР.
"Символ" китайской "долговой дипломатии" — это уже упоминавшийся выше шриланкийский порт Хамбантота, который, справедливости ради нужно отметить, начал строится еще в 2008 г., задолго до появления инициативы "Пояса и Пути". Основными подрядчиками выступили китайские компании China Harbour Engineering Companyи Sino hydro Corporation. Финансирование строительства на 85% осуществлялось за счет кредита, предоставленного китайским Эксим банком. Порт начал частично функционировать в 2010 г., однако приносимая прибыль оказалась ниже ожидаемой.
В этих условиях власти Шри-Ланки подписали новое соглашение с китайской государственной компанией China Merchants Port Holdings Company, в соответствии с которым последняя получала 70%-ную долю в управляющей портом компании и сам порт, как отмечалось выше, в долгосрочный лизинг. Со своей стороны, китайская компания обязалась дополнительно инвестировать около 600 млн долл, в развитие порта.
Еще один пример, приписываемый экспертами "долговой дипломатии", — сообщение о строительстве двух мостов на Филиппинах (хотя на деле их сооружение будет осуществляться за счет китайских грантов, а не кредитов, то есть бесплатно для Филиппин, и они останутся в государственной собственности Филиппин).
Сегодня китайская контрпропаганда первостепенное внимание уделяет проблематике "долговой дипломатии" в Африке. Китайские эксперты полемизируют с оппонентами и пытаются обосновать сомнительность их тезисов о "китайском неоколониализме на Африканском континенте". Здесь выстраивается целая цепочка контрдоводов.
При этом китайцы используют данные и суждения самих американских авторов, — в частности, авторов доклада Школы передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, согласно которому "основными кредиторами для африканских стран выступают западные финансовые институты". КНР же является таковым только для некоторых государств: Джибути, Конго, Замбии.
Китайцы делают акцент и на том аргументе своих западных оппонентов, что, например, согласно исследованию того же Института Шиллера, китайские инвестиции в странах Африки сосредоточены преимущественно в инфраструктурном строительстве, производстве и сельском хозяйстве и их объем значительно ниже американских и европейских инвестиций, которые работают в добыче полезных ископаемых и секторе услуг.
Рассматривая примеры пробуксовки проектов в рамках инициативы "Пояс и Путь" на примере Малайзии, китайские эксперты оттеняют предположение, что заморозка реализации трех проектов, осуществляемых китайскими компаниями и на китайские деньги (железная дорога, многопрофильный трубопровод и газопровод), может быть связана, скорее, с коррупцией, а не с опасением китайской экспансии. Со счетов фонда IMalaysia Development Berhad вдруг "исчезло" 4.5 млрд долл. Фонд был создан в 2009 г., участвовал в сделке с Малазийской стороны и, как пишут СМИ, предположительно связан с бывшим премьер-министром Наджибом Разаком, на счетах которого материализовались 700 млн долл. В качестве позитивного контрпримера китайцы отмечают, что сейчас в этой стране продолжается реализация более 10 крупных инфраструктурных проектов с участием китайских компаний и капитала общей стоимостью около 130 млрд долл.
По политически чувствительной теме Пакистана китайская контрпропаганда ссылается на то обстоятельство, что основными его кредиторами являются международные финансовые институты, а не Китай. По прогнозам МВФ, общая сумма долга Пакистана в 2019 г. превысит 95 млрд долл., а стоимость его обслуживания к 2022—2023 гг. составит примерно 31 млрд долл.
Активно используются Китаем и позитивные иностранные оценки его внешнеэкономической политики. В Пекине любят упоминать исследования одного из старейших американских университетов "Колледжа Вильгельма и Марии", согласно которым высока вероятность обеспечения "большей эффективности китайских инфраструктурных проектов при выравнивании уровня регионального экономического развития по сравнению с проектами западных стран". Китайская контрпропаганда особое внимание обращает и на другой посыл данного исследования, показывающий "четкую связь между строительством китайских инфраструктурных проектов и повышением темпов экономического развития стран, где они реализуются".
С точки зрения объективного анализа, в отношении китайской инициативы "Пояс и Путь", конечно, не должно возникать сомнений относительно ее благотворительности, однако и в ее критике со стороны западных стран и финансовых институтов присутствуют тезисы, с которыми трудно согласиться.
Во-первых, необходимо подчеркнуть, что ни Си Цзиньпин, ни какое-либо другое китайское официальное лицо не заявляли о "благотворительном характере китайской инициативы". "Пояс и Путь" направлен на поддержку развития прежде всего китайской экономики. Логично, что участие в китайской инициативе не может быть бесплатным. Принимать или не принимать условия игры — это вопрос тщательного изучения возможностей и рисков реализации того или иного проекта.
Во-вторых, можно согласиться с доводами китайцев о том, что обвинения в реализации КНР "политики неоколониализма", под которым традиционно понимается "несправедливое использование" развитыми странами природных ресурсов развивающихся стран, преувеличены. Китай прежде всего инвестирует свои средства в инфраструктуру, превращая последующее освоение природных ресурсов развивающихся стран в "сбалансированный и взаимовыгодный бизнес".
В-третьих, масштаб китайской "долговой дипломатии" также преувеличен, так как для стран Африки, Латинской Америки и Пакистана сегодня основными кредиторами продолжают выступать все же международные финансовые институты. КНР использует в качестве демонстрации преимущества своей политики и собственную тактику, отмечая, что, в отличие от международных институтов, Пекин не требует от стран-реципиентов изменений национальной экономической политики, — например, таких, как "открыть экономику", либерализовать курс национальной валюты, провести политические реформы и т.д.
В-четвертых, здесь возникает, скорее, философский вопрос - что лучше, например, для стран Африки: разрешить китайским компаниям создать какой-либо инфраструктурный проект и потом владеть им или не разрешить? При том что африканские страны и так перекредитованы, у них нет ни технической, ни финансовой возможности самостоятельно осуществить тот или иной крупный инфраструктурный проект, а международные финансовые институты начинают ограничивать их в помощи. Для сравнения: Шри-Ланка на протяжении длительного периода времени пыталась получить финансирование для строительства того же порта Хамбантота у Японии, Индии, МВФ и АБР, однако неизменно получала отказ, например, из-за "нарушений прав человека" (имелась в виду многолетняя война между властями страны и сепаратистским движением "Тигры освобождения Тамил-Илама'') или по причине предполагаемой коммерческой неэффективности проекта.
В-пятых, открытым остается вопрос: а есть ли принципиальные отличия в использовании национальных компаний при реализации проектов в рамках китайской инициативы и, например, какого-либо американского проекта - неужели в случае реализации того или иного варианта американского "Нового Шелкового пути" (как, например, американская программа экономического развития Афганистана "Новый Шелковый путь", озвученная в 2011г. Хилари Клинтон) в Афганистане строительством занимались бы афганские компании?
В-шестых, кажется сомнительной правомерность приписываемой КНР логики расчета "многоходовой комбинации" в отношении шриланкийского порта Хамбантота (других примеров пока нет). Получается, что китайские власти осуществили очень сложную и дорогую комбинацию: рассчитали, что порт будет коммерчески неэффективен, но убедили правительство Шри-Ланки в прибыльности порта на перспективу, затем дали кредит, убедились в том, что порт все же неэффективен, после чего китайская компания обязалась выплатить дополнительные 1.2 млрд долл, и заполучила порт в лизинг на 99 лет с обязательствами вложить еще 600 млн долл, в его развитие. Конечно, такое теоретически возможно, но в практическом плане выглядит неправдоподобным.
В-седьмых, одной из основных причин активизации критики китайской инициативы представляется обострение экономической конкуренции между США и КНР по мере роста китайской экономики. Соединенные Штаты готовы пытаться сдерживать стратегию "Пояс и Путь" и конкурировать с ней разными методами, в частности, рассматривая Азиатско-Тихоокеанский регион в более широком контексте Индо-Тихоокеанского региона с тем, чтобы создавать для себя концептуально-политические возможности подключения не только "старожилов" АТР Японии и Австралии, но и крупного игрока вне традиционного АТР — Индии (в формате так называемого четырехстороннего сотрудничества Quadrilateral Security Dialogue, QSD, QUAD) для сдерживания Китая и формирования в странах региона представления о возможности использования альтернативных каналов финансирования инфраструктурных проектов в развивающихся странах.
Стратегия начинает работать. Например, американская International Development Finance Corporation планирует увеличить финансирование реализации инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 60 млрд долл. Дополнительно власти США планируют выделить 25 млн долл, на продвижение здесь американских технологий. Американская Overseas Private Investment Согр.,японский Bank for International Cooperation и австралийская Export Finance and Insurance Согр. договорились совместно финансировать соответствующие проекты в АТР.
ВЛИЯНИЕ "ТРЕНИЙ" НА ПОДХОД КИТАЯ К РОССИИ
Под углом проблем с США продолжает корректироваться китайская политика по отношению к РФ. И здесь есть свои "две стороны", отражающие неоднозначность ситуации.
С одной, Пекин продолжает использовать "карту России" для оказания давления на Вашингтон. КНР активизирует торговое (товарооборот в 2018 г. впервые превысил 100млрд долл.) и военное сотрудничество (закупки вооружений, частые и масштабные военные учения) с РФ, демонстративно идет на поддержку российских внешнеполитических инициатив в формате ООН и других международных организаций.
С другой, у Китая накапливается непонимание политики России на американском направлении. Ища союзника в Москве против Вашингтона, Пекин не хочет получать из-за нее дополнительные проблемы в отношениях с США.
В экономике — китайский крупный бизнес всерьез опасается вести дела с Россией из-за угрозы попасть под американские санкции. В конце 2018 г. ЦБ РФ вынужден был официально разъяснить китайским партнерам, что персональные американские санкции против российских банкиров и предпринимателей не распространяются на их компании. Вопрос о том, насколько это заявление было убедительным, остается открытым. Можно предположить, что государственные корпорации, по прямым указаниям ЦК КПК, могут воспринять позитивно такого рода сигнал. Что же касается крупного частного бизнеса, то здесь, вероятно, китайцам потребуются дополнительные доводы.
Аргументы ряда китайских и российских экспертов о том, что обе страны находятся под "санкциями США" и это служит основой их антиамериканского альянса, как представляется, не в полной мере обоснованы. Россия попала под санкции, введенные по политическим мотивам. Соответственно, снять их могли бы, прежде всего, политические договоренности Москвы и Вашингтона. В отношении Пекина действуют не санкции, а тарифные "меры воздействия", которые допускают решения, собственно, в самом экономическом поле.
В области внешней политики в условиях нынешнего противостояния с Соединенными Штатами Китай хочет иметь ясное и четкое (а не только в виде традиционных заверений о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве)представление о том, насколько он может рассчитывать на РФ в проведении своей внешней политики в "новых условиях". В этом контексте Пекин доводит до Москвы мысль, что он хотел бы получить четкие ответы как минимум на несколько важных для него стратегических вопросов.
Во-первых, что означает российская "политика поворота на Восток"? Каковы ее цели, конкретные мероприятия, какие финансовые ресурсы на нее выделяются, какое место уделяется в ней Китаю, Японии, Корее, АСЕАН, а также США?
Во-вторых, действительно ли Россия хочет нормализации отношений с Соединенными Штатами — или, наоборот, не хочет этого? Ответ в том духе, что Москва готова к нормализации, но "мяч" в руках Трампа, Пекин сегодня, похоже, не в полной мере устраивает.
В КНР полагают, что без прояснения подхода РФ по этим и подобным вопросам, Китаю будет трудно определить те пределы, в которых он может рассчитывать на Россию в нынешнем противоборстве с США.
Мировая Экономика и международные отношения.- Том 63, номер 5, май 2019
С одной, Пекин продолжает использовать "карту России" для оказания давления на Вашингтон. КНР активизирует торговое (товарооборот в 2018 г. впервые превысил 100млрд долл.) и военное сотрудничество (закупки вооружений, частые и масштабные военные учения) с РФ, демонстративно идет на поддержку российских внешнеполитических инициатив в формате ООН и других международных организаций.
С другой, у Китая накапливается непонимание политики России на американском направлении. Ища союзника в Москве против Вашингтона, Пекин не хочет получать из-за нее дополнительные проблемы в отношениях с США.
В экономике — китайский крупный бизнес всерьез опасается вести дела с Россией из-за угрозы попасть под американские санкции. В конце 2018 г. ЦБ РФ вынужден был официально разъяснить китайским партнерам, что персональные американские санкции против российских банкиров и предпринимателей не распространяются на их компании. Вопрос о том, насколько это заявление было убедительным, остается открытым. Можно предположить, что государственные корпорации, по прямым указаниям ЦК КПК, могут воспринять позитивно такого рода сигнал. Что же касается крупного частного бизнеса, то здесь, вероятно, китайцам потребуются дополнительные доводы.
Аргументы ряда китайских и российских экспертов о том, что обе страны находятся под "санкциями США" и это служит основой их антиамериканского альянса, как представляется, не в полной мере обоснованы. Россия попала под санкции, введенные по политическим мотивам. Соответственно, снять их могли бы, прежде всего, политические договоренности Москвы и Вашингтона. В отношении Пекина действуют не санкции, а тарифные "меры воздействия", которые допускают решения, собственно, в самом экономическом поле.
В области внешней политики в условиях нынешнего противостояния с Соединенными Штатами Китай хочет иметь ясное и четкое (а не только в виде традиционных заверений о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве)представление о том, насколько он может рассчитывать на РФ в проведении своей внешней политики в "новых условиях". В этом контексте Пекин доводит до Москвы мысль, что он хотел бы получить четкие ответы как минимум на несколько важных для него стратегических вопросов.
Во-первых, что означает российская "политика поворота на Восток"? Каковы ее цели, конкретные мероприятия, какие финансовые ресурсы на нее выделяются, какое место уделяется в ней Китаю, Японии, Корее, АСЕАН, а также США?
Во-вторых, действительно ли Россия хочет нормализации отношений с Соединенными Штатами — или, наоборот, не хочет этого? Ответ в том духе, что Москва готова к нормализации, но "мяч" в руках Трампа, Пекин сегодня, похоже, не в полной мере устраивает.
В КНР полагают, что без прояснения подхода РФ по этим и подобным вопросам, Китаю будет трудно определить те пределы, в которых он может рассчитывать на Россию в нынешнем противоборстве с США.
Мировая Экономика и международные отношения.- Том 63, номер 5, май 2019
~
Сподобалась стаття? Подаруйте нам, будь-ласка, чашку кави й ми ще більш прискоримося та вдосконалимося задля Вас.) SG SOFIA - медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!
Ще матеріали по темі: