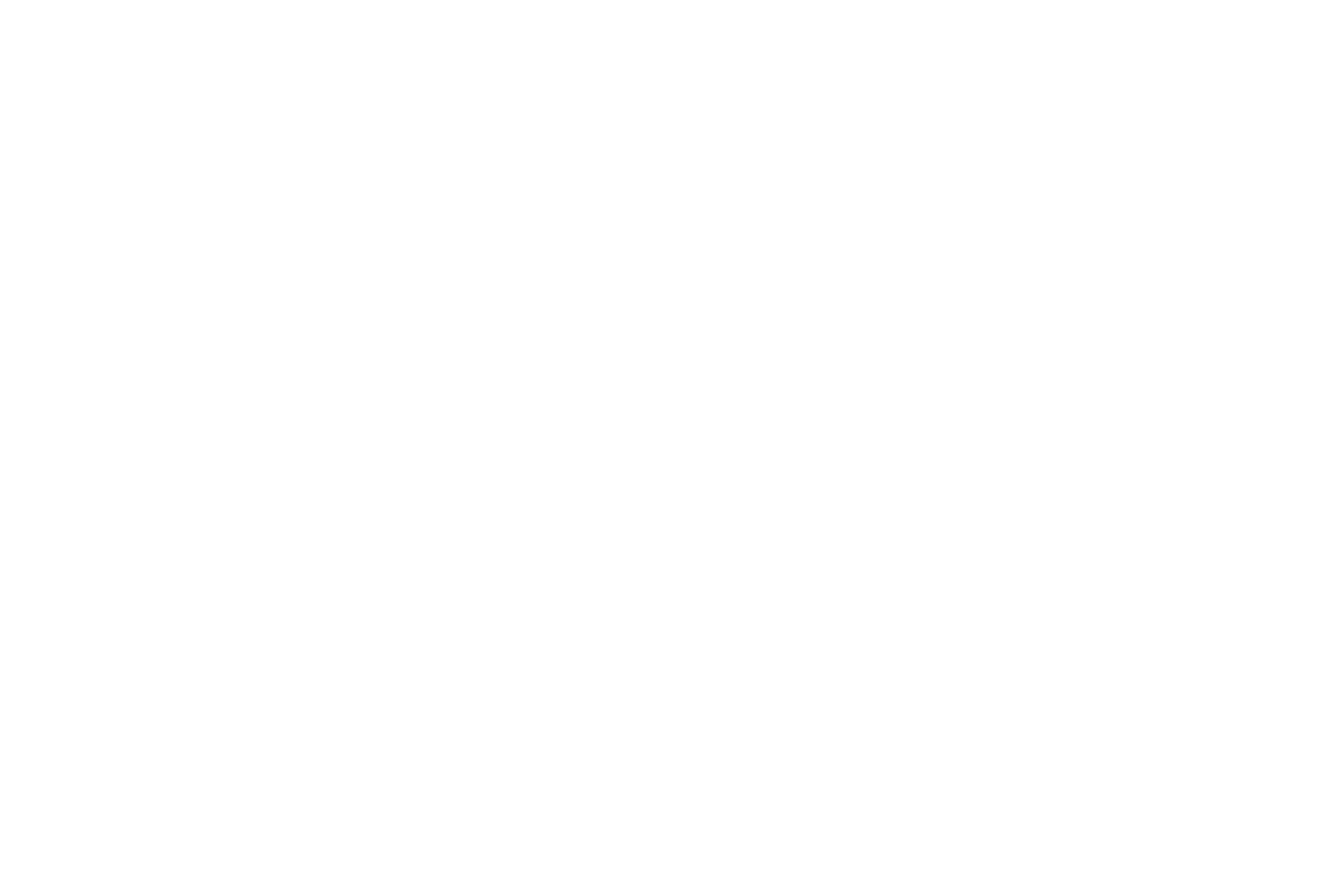© 2019 Strategic Group.Media
МОДЕРНИЗАЦИЯ И КАПИТАЛИЗМ В КИТАЕ
ПО ПОВОДУ ГИПОТЕЗЫ МАКСА ВЕБЕРА
доктор исторических наук, профессор
В 1972 году окончил Институт восточных языков, потом год стажировался в Сингапуре. Четырнадцать лет преподавал в МГУ, потом работал в Институте этнографии, Институте Дальнего Востока и Институте Человека. В 1988 г. в МГУ защитил докторскую диссертацию, посвященную идеологии в раннесредневековом Китае. Преподавал в разных странах: Японии, Китае, США, Франции и проч. В настоящее время — профессор факультета Русского языка и литературы Тамканского университета, директор Института России Тамканского университета (Тайвань)
В статье рассматривается проблема отношения модернизации и капитализма в Китае. Автор показывает ограниченность взглядов М. Вебера, не находившего предпосылок для капиталистического развития в традиционной китайской культуре, и выдвигает свою концепцию природы капиталистического уклада в современном Китае, указывая на её тесную связь с особенностями общественной организации китайцев, их жизненными ценностями и менталитетом. Подчеркивается жизнеспособность этих ценностей в условиях современного «гиперкапитализма» эпохи постмодерна и необходимость пересмотра понятия капитализма в свете китайского опыта.
Синьхайская революция обозначила переход Китая к фазе активной модернизации. Но природа китайской модернизации, соотношение китайского и западного факторов в ней долгое время оставались непроясненными. Решить эти вопросы в конечном счёте невозможно, не принимая во внимание культурную и религиозную традицию Китая. Удобный подступ к проблеме предоставляет гипотеза немецкого социолога Макса Вебера о происхождении капитализма.
Как известно, в 1905 г. появилась книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой доказывалось, что корни современного капитализма нужно искать в мировоззрении радикальных протестантских сект. Главным импульсом развития капиталистического уклада в Европе Вебер считал «мирской аскетизм»: готовность отречься от чувственных удовольствий ради устроения царства небесного на Земле. Аскетический образ жизни протестантов, по мнению Вебера, делал их капиталистами, поскольку их религия запрещала им «нерациональные» траты средств, а наличие богатства было в их глазах знаком божественного избранничества.
Позднее Вебер написал книгу «Религия Китая, конфуцианство и даосизм», в которой попытался оценить значение традиционных религий для модернизации китайского общества. Вебер полагал, что рациональность, присущая китайскому мировоззрению, коренным образом отличалась от типа рациональности, породившего капиталистическую революцию в Европе. Наибольшее значение Вебер придавал тому обстоятельству, что конфуцианство «было рациональной этикой, которая сводила напряжение в мире к абсолютному минимуму». Для конфуцианцев, утверждал Вебер, «этот мир был лучшим из всех возможных миров; человеческая природа отличалась склонностью к добру. Люди наделены этой склонностью в разной степени, но, обладая одной и той же природой и будучи способными к неограниченному совершенствованию, все они в принципе могут исполнить моральный закон».[15, c.227-228] По той же причине китайцам чуждо чувство греха и вины
Как известно, в 1905 г. появилась книга Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой доказывалось, что корни современного капитализма нужно искать в мировоззрении радикальных протестантских сект. Главным импульсом развития капиталистического уклада в Европе Вебер считал «мирской аскетизм»: готовность отречься от чувственных удовольствий ради устроения царства небесного на Земле. Аскетический образ жизни протестантов, по мнению Вебера, делал их капиталистами, поскольку их религия запрещала им «нерациональные» траты средств, а наличие богатства было в их глазах знаком божественного избранничества.
Позднее Вебер написал книгу «Религия Китая, конфуцианство и даосизм», в которой попытался оценить значение традиционных религий для модернизации китайского общества. Вебер полагал, что рациональность, присущая китайскому мировоззрению, коренным образом отличалась от типа рациональности, породившего капиталистическую революцию в Европе. Наибольшее значение Вебер придавал тому обстоятельству, что конфуцианство «было рациональной этикой, которая сводила напряжение в мире к абсолютному минимуму». Для конфуцианцев, утверждал Вебер, «этот мир был лучшим из всех возможных миров; человеческая природа отличалась склонностью к добру. Люди наделены этой склонностью в разной степени, но, обладая одной и той же природой и будучи способными к неограниченному совершенствованию, все они в принципе могут исполнить моральный закон».[15, c.227-228] По той же причине китайцам чуждо чувство греха и вины
“
«Аскетизм и созерцательность, умерщвление плоти и бегство от мира, – подчеркивал Вебер, – не только не были приняты в конфуцианстве, но презирались им как паразитизм... Эта этика безусловного утверждения мира и приспособления к нему предполагала непрерывность существования чисто магической религии»
(под магической религией протестант по своему мировоззрению Вебер понимал всякую религию, придававшую большое значение обрядности). Господство «магического миросозерцания» в китайской религии имело важные последствия для поведения китайцев, которое отличается, по словам Вебера, «поразительным отсутствием «нервов» в специфически современном европейском смысле этого слова; бесконечным терпением и контролируемой вежливостью; сильной привязанностью ко всему привычному; полным нечувствованием однообразия; способностью к продолжительному труду и замедленной реакцией на необычные стимулы, особенно в интеллектуальной сфере».[15, c.229, 231] Главным итогом такого миропонимания и типа поведения стало, согласно Веберу, отсутствие в китайской культуре «целостной личности», имеющей свое «внутреннее ядро», свое интеллектуальное и душевное единство. Для китайца, полагал Вебер, «жизнь оставалась чередой случаев».
Все эти особенности китайского миропонимания, считал Вебер, позволяют понять, почему при всем преклонении китайцев перед «богатством» и в особенности деньгами, в Китае не появился слой капиталистических предпринимателей. Отсутствие трансцендентного идеала и неспособность оторваться от «магического мировоззрения» обрекала элиту китайского общества, согласно Веберу, на пассивное воспроизведение сложившегося уклада жизни. В условиях безраздельного господства семейно-клановых ценностей отсутствовали предпосылки для возникновения даже зачатков публичности и гражданского общества. Все социальные явления находили свое завершение в «изящном жесте», любезной манере обхождения, одним словом, в формалистике знаменитых «китайских церемоний», что, конечно, не прибавляло деловым людям взаимного доверия.
В нарисованной Вебером картине много точных и верных наблюдений. Не лишена оснований глобальная оппозиция между западным трансцендентализмом, с его верой в потустороннего Бога, и китайским имманентизмом, т.е. идеей о том, что высшая реальность есть внутренний исток жизни, обретаемый в глубине опыта. Эта установка выражена в главных принципах китайского миропонимания: «оставить умствование», «взращивать покой», «следовать естественному в себе». Из этого не следует, что китаец мог только «приспосабливаться» к действительности. Китайская традиция предъявляла своим восприемникам жёсткое требование превозмогать всё субъективно-частное в себе, причём такое усилие носило характер «оставления себя» равнозначного самотипизации и , следовательно, восполнению своего бытия. Более того, воспитываемая усилием «само-оставления» духовная чувствительность позволяла мудрому стоять над миром. Герой конфуцианской традиции являет неизвестный в Европе тип нонконформистского традиционалиста.
Верно, однако, что китайские учителя не искали умственной точки опоры, которая позволила бы им перевернуть мир, и в их распоряжении не было доктрины или веры, которые можно было противопоставить мирскому мнению. Китаец – прирожденный оппортунист и соглашатель, но он всегда стремится превзойти своих оппонентов в тонкости восприятия вещей, а знание тонких различий в вещах в конце концов даёт авторитет и власть.
Нельзя не видеть и исторической ограниченности оценок немецкого социолога, а равно шаткости его построений. Вебер, надо думать, не случайно употребил расплывчатое выражение «дух капитализма», поскольку влияние протестантизма на становление реальных капиталистических институтов далеко не очевидно. Немало учёных такое влияние вовсе отрицают. Отметим, что католическая традиция иначе трактует соотношение духовного подвига и меркантильного духа, но обладает не меньшими ресурсами для оправдания «духа капитализма». В одно время с кальвинистскими проповедниками радикальные католические идеологи, в т.ч. так называемые янсенисты, утверждали, что спасительна лишь бескорыстная любовь к Богу, мирская же жизнь насквозь поражена себялюбием, не исключая и аристократического идеала «честного человека». Тем не менее, Бог провиденциально определил так, что в масштабах всего общества корыстолюбие оказывает благое действие, поддерживая совместную жизнь людей и государственные установления. Янсенисты утверждали даже, что «просвещенное себялюбие», посредством коммерции и взаимного обмена услугами удовлетворяет потребности людей и без христианской любви. Вот почему, согласно парадоксальным соображениям янсенистов, в странах, где нет истинной религии (например, на Востоке) царит мир и благоденствие, какими бы испорченными они ни были по своему духовному состоянию. Поистине, если бы укорененность таких обществ в себялюбии не была доступна взору, они выглядели бы в высшей степени привлекательно. По этой же причине религиозный идеал, остающийся уделом немногих подвижников, не должен подменять собою светскую власть: кесарю следует воздать кесарево.[11, c.133-139]
Католическая точка зрения предполагает парадоксальную связь несовместимых вещей: божественной любви и себялюбия; связь приемлемую именно вследствие её провиденциального характера. Она убедительно объясняет место христианства в мире, но ценой допущения, которое её протестантским оппонентам показалось бы невольным (а на практике и вольным) лицемерием. Правда, протестантские общины потому и заслуживают названия сект, что вообще считают остальной мир обречённым на гибель. Интересно, что православная традиция в основном близка католической позиции, но без попытки рационализировать взаимоотношения церкви с миром в категориях «просвещенного корыстолюбия» Место последнего, скорее, занимает личная святость в её специфически русском образе юродства, подчёркивающим разрыв между человеческим разумением и божественной премудростью.
Вопрос о том, допускало ли китайское мировоззрение капитализм, более не является актуальным в свете исторических сдвигов, произошедших со времен Макса Вебера. Мы знаем теперь, что капитализм бывает разный, и что формы его могут разительно изменяться в ходе истории. Капитализм, как понимал его Вебер, имеет очень мало общего с современным капиталистическим укладом. Главной регулирующей инстанцией капитала сегодня выступает не производство, а потребление со всеми сопутствующими ему институтами и формами практик. Соответственно, со всей очевидностью раскрылось основное противоречие капитализма, которое заключается в нераздельности накопления и траты. Это противоречие больше соответствует как раз отношению к капитализму в католичестве. Одновременно информационные технологии – подлинный базис современного капитализма – переводят обмен в плоскость знаков и устанавливают контроль над сознанием. Что же касается стратегии капиталистического предпринимательства, то она характеризуется, с одной стороны, сращиванием капиталистических сетей с их общественной средой, переходом их взаимодействия на микроуровень индивидуальных контактов, а, с другой стороны, анонимностью этих контактов. В современном обществе всё большую роль играют неизвестные прежде отношения безличной интимности или, если угодно, интимной безличности.
Распространено мнение, что мы присутствуем при окончательном триумфе капиталистической экономики, когда в оборот капитала вовлекается сама психическая субстанция жизни. Это событие предполагает парадоксальное сочетание чувственного возбуждения, поощрения желаний и ледяного бесстрастия всеобщего обмена, равноценности всего и вся. При этом капитализм наилучшим образом эксплуатирует тот факт, что человеку свойственно получать удовольствие не столько от удовлетворения желания, сколько от способности отложить его. Отсюда и вторая важная черта современного капиталистического уклада: симуляционная природа самого обмена. Одним словом, бытие стало событием, со-бытием, т.е. совместным бытием без трансцендентного единства.
Все эти особенности китайского миропонимания, считал Вебер, позволяют понять, почему при всем преклонении китайцев перед «богатством» и в особенности деньгами, в Китае не появился слой капиталистических предпринимателей. Отсутствие трансцендентного идеала и неспособность оторваться от «магического мировоззрения» обрекала элиту китайского общества, согласно Веберу, на пассивное воспроизведение сложившегося уклада жизни. В условиях безраздельного господства семейно-клановых ценностей отсутствовали предпосылки для возникновения даже зачатков публичности и гражданского общества. Все социальные явления находили свое завершение в «изящном жесте», любезной манере обхождения, одним словом, в формалистике знаменитых «китайских церемоний», что, конечно, не прибавляло деловым людям взаимного доверия.
В нарисованной Вебером картине много точных и верных наблюдений. Не лишена оснований глобальная оппозиция между западным трансцендентализмом, с его верой в потустороннего Бога, и китайским имманентизмом, т.е. идеей о том, что высшая реальность есть внутренний исток жизни, обретаемый в глубине опыта. Эта установка выражена в главных принципах китайского миропонимания: «оставить умствование», «взращивать покой», «следовать естественному в себе». Из этого не следует, что китаец мог только «приспосабливаться» к действительности. Китайская традиция предъявляла своим восприемникам жёсткое требование превозмогать всё субъективно-частное в себе, причём такое усилие носило характер «оставления себя» равнозначного самотипизации и , следовательно, восполнению своего бытия. Более того, воспитываемая усилием «само-оставления» духовная чувствительность позволяла мудрому стоять над миром. Герой конфуцианской традиции являет неизвестный в Европе тип нонконформистского традиционалиста.
Верно, однако, что китайские учителя не искали умственной точки опоры, которая позволила бы им перевернуть мир, и в их распоряжении не было доктрины или веры, которые можно было противопоставить мирскому мнению. Китаец – прирожденный оппортунист и соглашатель, но он всегда стремится превзойти своих оппонентов в тонкости восприятия вещей, а знание тонких различий в вещах в конце концов даёт авторитет и власть.
Нельзя не видеть и исторической ограниченности оценок немецкого социолога, а равно шаткости его построений. Вебер, надо думать, не случайно употребил расплывчатое выражение «дух капитализма», поскольку влияние протестантизма на становление реальных капиталистических институтов далеко не очевидно. Немало учёных такое влияние вовсе отрицают. Отметим, что католическая традиция иначе трактует соотношение духовного подвига и меркантильного духа, но обладает не меньшими ресурсами для оправдания «духа капитализма». В одно время с кальвинистскими проповедниками радикальные католические идеологи, в т.ч. так называемые янсенисты, утверждали, что спасительна лишь бескорыстная любовь к Богу, мирская же жизнь насквозь поражена себялюбием, не исключая и аристократического идеала «честного человека». Тем не менее, Бог провиденциально определил так, что в масштабах всего общества корыстолюбие оказывает благое действие, поддерживая совместную жизнь людей и государственные установления. Янсенисты утверждали даже, что «просвещенное себялюбие», посредством коммерции и взаимного обмена услугами удовлетворяет потребности людей и без христианской любви. Вот почему, согласно парадоксальным соображениям янсенистов, в странах, где нет истинной религии (например, на Востоке) царит мир и благоденствие, какими бы испорченными они ни были по своему духовному состоянию. Поистине, если бы укорененность таких обществ в себялюбии не была доступна взору, они выглядели бы в высшей степени привлекательно. По этой же причине религиозный идеал, остающийся уделом немногих подвижников, не должен подменять собою светскую власть: кесарю следует воздать кесарево.[11, c.133-139]
Католическая точка зрения предполагает парадоксальную связь несовместимых вещей: божественной любви и себялюбия; связь приемлемую именно вследствие её провиденциального характера. Она убедительно объясняет место христианства в мире, но ценой допущения, которое её протестантским оппонентам показалось бы невольным (а на практике и вольным) лицемерием. Правда, протестантские общины потому и заслуживают названия сект, что вообще считают остальной мир обречённым на гибель. Интересно, что православная традиция в основном близка католической позиции, но без попытки рационализировать взаимоотношения церкви с миром в категориях «просвещенного корыстолюбия» Место последнего, скорее, занимает личная святость в её специфически русском образе юродства, подчёркивающим разрыв между человеческим разумением и божественной премудростью.
Вопрос о том, допускало ли китайское мировоззрение капитализм, более не является актуальным в свете исторических сдвигов, произошедших со времен Макса Вебера. Мы знаем теперь, что капитализм бывает разный, и что формы его могут разительно изменяться в ходе истории. Капитализм, как понимал его Вебер, имеет очень мало общего с современным капиталистическим укладом. Главной регулирующей инстанцией капитала сегодня выступает не производство, а потребление со всеми сопутствующими ему институтами и формами практик. Соответственно, со всей очевидностью раскрылось основное противоречие капитализма, которое заключается в нераздельности накопления и траты. Это противоречие больше соответствует как раз отношению к капитализму в католичестве. Одновременно информационные технологии – подлинный базис современного капитализма – переводят обмен в плоскость знаков и устанавливают контроль над сознанием. Что же касается стратегии капиталистического предпринимательства, то она характеризуется, с одной стороны, сращиванием капиталистических сетей с их общественной средой, переходом их взаимодействия на микроуровень индивидуальных контактов, а, с другой стороны, анонимностью этих контактов. В современном обществе всё большую роль играют неизвестные прежде отношения безличной интимности или, если угодно, интимной безличности.
Распространено мнение, что мы присутствуем при окончательном триумфе капиталистической экономики, когда в оборот капитала вовлекается сама психическая субстанция жизни. Это событие предполагает парадоксальное сочетание чувственного возбуждения, поощрения желаний и ледяного бесстрастия всеобщего обмена, равноценности всего и вся. При этом капитализм наилучшим образом эксплуатирует тот факт, что человеку свойственно получать удовольствие не столько от удовлетворения желания, сколько от способности отложить его. Отсюда и вторая важная черта современного капиталистического уклада: симуляционная природа самого обмена. Одним словом, бытие стало событием, со-бытием, т.е. совместным бытием без трансцендентного единства.
Современный капитализм бросает вызов европейской интеллектуальной традиции, на который – как показывает затянувшийся кризис антикапиталистических проектов – пока нет убедительного ответа.
В поисках этого ответа многие учёные обращаются к опыту стран Дальнего Востока, чьи впечатляющие достижения последних десятилетий дали пищу для разговоров о существовании особого китайского или конфуцианского капитализма и о его преимуществах перед капитализмом западного типа. На Западе принято считать, что торжество меновой стоимости выявляет недостижимость того, что можно назвать исходной и уникальной в своей неразменности стоимости, чего-то подлинно бесценного. Именно таким образом, отмечает Ж.-Л. Нанси в современном мире «сосуществуют глобализация рынка и глобализация «прав человека»: последние представляют некую ценность, притязающую на абсолютный характер, которую капитал стремится обменять... на самого себя».[8, с.120] Аналогичным образом в сферу капитала вовлекаются предметы уникальные, тешащие снобизм толстосумов. Переплетение и даже взаимопроникновение «аутентичных», «неразменных» и «неаутентичных», «рыночных» качеств бытия-как-стоимости в такого роде товарном фетишизме представляет одну из самых болезненных точек современной теории капитала.
Между тем в отношении китайцев к жизни есть черты, не имеющие аналога а западной цивилизации: для них жизнь есть естественный прообраз торговли, меновой стоимости или, говоря по-другому, китайцы не различают полезную и меновую стоимость вещей. Здесь мы можем нащупать главную пружину общественной жизни в Китае: чтобы поддержать жизнь, нужны деньги, а «неразменная» радость жизни в каком-то ускользающем фокусе человеческого бытия сходится со всеобщим эквивалентом ценностей. В итоге китайская культура позволяет совмещать накопление капитала и непроизводительные траты, обусловленные социальными обязательствами (например, статусом, понятием «лица», связями). Жизненному укладу и менталитету китайцев свойствен очень устойчивый баланс денежной экономики, трудового процесса и наслаждения жизнью как таковой. Современные китайские предприниматели любят подчеркивать, что истинная мера жизненного счастья – это работа, которая одновременно приносит доход и моральное удовлетворение. Бессознательно стремясь совместить экономическую абстракцию и жизненную конкретность, китайцы сумели избежать уже известную нам и жгуче-острую в западной цивилизации проблему разрыва между «полезной» и «меновой» формами стоимости, «сущностью» и «обменом».
В историческом плане нельзя не отметить, что Синьхайская революция дала мощный импульс развитию так называемых синкретических, или светских религий, отличающихся слитностью религиозных и мирских ценностей. Эти религии обозначили новую ступень сращивания жизни и коммерции, вообще свойственного китайскому укладу. Их переход из разряда «нечестивых сект» в хранителей традиционных ценностей, наблюдаемый в ХХ в., соответствует и переходу китайского общества на рельсы капиталистической экономики. В известном смысле новые религии представляли собой самобытную модернизацию по-китайски и притом такую, которая исторически опережала классическую западную модернизацию, поскольку сразу увязывала предпринимательство с поддержанием общественного строя. Вот как, например, определяется отношение к богатству в одной из новых синкретических сект – «Учение мудрых о небесной добродетели» (Тяньдэ шэнцзяо), основанной проповедником Сяо Чан-мином в 20х гг. ХХ в.:
Между тем в отношении китайцев к жизни есть черты, не имеющие аналога а западной цивилизации: для них жизнь есть естественный прообраз торговли, меновой стоимости или, говоря по-другому, китайцы не различают полезную и меновую стоимость вещей. Здесь мы можем нащупать главную пружину общественной жизни в Китае: чтобы поддержать жизнь, нужны деньги, а «неразменная» радость жизни в каком-то ускользающем фокусе человеческого бытия сходится со всеобщим эквивалентом ценностей. В итоге китайская культура позволяет совмещать накопление капитала и непроизводительные траты, обусловленные социальными обязательствами (например, статусом, понятием «лица», связями). Жизненному укладу и менталитету китайцев свойствен очень устойчивый баланс денежной экономики, трудового процесса и наслаждения жизнью как таковой. Современные китайские предприниматели любят подчеркивать, что истинная мера жизненного счастья – это работа, которая одновременно приносит доход и моральное удовлетворение. Бессознательно стремясь совместить экономическую абстракцию и жизненную конкретность, китайцы сумели избежать уже известную нам и жгуче-острую в западной цивилизации проблему разрыва между «полезной» и «меновой» формами стоимости, «сущностью» и «обменом».
В историческом плане нельзя не отметить, что Синьхайская революция дала мощный импульс развитию так называемых синкретических, или светских религий, отличающихся слитностью религиозных и мирских ценностей. Эти религии обозначили новую ступень сращивания жизни и коммерции, вообще свойственного китайскому укладу. Их переход из разряда «нечестивых сект» в хранителей традиционных ценностей, наблюдаемый в ХХ в., соответствует и переходу китайского общества на рельсы капиталистической экономики. В известном смысле новые религии представляли собой самобытную модернизацию по-китайски и притом такую, которая исторически опережала классическую западную модернизацию, поскольку сразу увязывала предпринимательство с поддержанием общественного строя. Вот как, например, определяется отношение к богатству в одной из новых синкретических сект – «Учение мудрых о небесной добродетели» (Тяньдэ шэнцзяо), основанной проповедником Сяо Чан-мином в 20х гг. ХХ в.:
“
«Богатство есть источник питания жизни. Оно может облагодетельствовать человека и может его погубить, может принести ему пользу и может причинить ему вред. Богатство – вещь текучая, расползающаяся. Предки собирают его и не дают ему растекаться. Их потомки должны беречь собранное прежними поколениями, не тратить понапрасну деньги на уличные увеселения, питейные заведения и прочие сомнительные занятия. Вот почему не иметь богатства даже лучше, чем быть богачом. Богатство может облагодетельствовать людей, поспособствовать общей пользе, и тогда оно служит укреплению собственной добродетели. А наши духовные заслуги перейдут к нашим потомкам, и это гораздо лучше, чем передавать потомкам деньги. Итак, богатство питает жизнь, и обойтись без него невозможно. Но нельзя быть слишком алчным и причинять вред другими людям. Покойно принимайте свою жизненную долю и служите общему долгу, вот и всё»
Хотя новые синкретические религии были ориентированы на традиционные ценности и обращались ко всем слоям общества, они чётко отличали себя от стихии мирской жизни и даже противопоставляли себя ей. В этом смысле они напоминают протестантские секты в Европе или русское старообрядчество – «протестантизм восточного обряда», по известному выражению В. Соловьёва, которое тоже внесло немалый вклад в развитие капитализма в России. Сходную роль новые синкретические секты, проповедовавшие нераздельность духовного просветления и труда (широко известный тезис буддизма на Дальнем Востоке), сыграли и в Японии. Напомним, что одна из них послужила образцом для принципов корпоративного управления К. Мацуситы – одного из самых выдающихся бизнесменов Японии в ХХ в.
Если присмотреться внимательнее к китайскому жизненному идеалу, в нём действительно можно обнаружить поразительные параллели собственно коммерческой деятельности. Китайцы традиционно считали высшей ценностью не что иное, как «питание жизни» (ян шэн), и они стремятся использовать все возможности для укрепления жизненной энергии. Последняя, очевидно, выступает как своеобразный аналог капитала, в котором и воплощается жизненный идеал китайцев: получение от жизни как можно более чистого и здорового удовольствия. И здесь весьма ценной оказывается способность откладывать реализацию удовольствия, что, кстати сказать, многие китайские политики и бизнесмены считают главным преимуществом китайской культуры перед «растленной» цивилизацией Запада.[6, с.50 и сл.] Примечательно в этой связи китайское представление о сексуальной практике: последняя трактовалась как способ умножения запасов семени в организме мужчины, что укрепляло его жизненные силы и, в итоге, способствовало рождению потомства.
Не вдаваясь в детали процесса «питания жизни», отметим его основные характеристики.
Во-первых, речь идет не просто о «накапливании» жизненных сил, но о качественном улучшении жизни, интенсификации жизненного опыта, повышении чувствительности тела и духа.
Во-вторых, вновь обретённая интенсивная жизнь предстаёт как уникальная, несоизмеримая единичность, она же абсолютная функциональность или фокус мировых метаморфоз.
В-третьих, проживание этих единичностей носит характер «возвращения к истоку», наследования изначальному, что даёт возможность в известном смысле овладеть временем и упреждать события. Таков один из важный аспектов знаменитого китайского гунфу.
В-четвёртых, описанная стратегия капитализации жизни выявляет значение пустоты всеобщей функциональности как неистощимого резервуара, неустранимого остатка всего сущего, условия абсолютного покоя, что в сочетании с интенсификацией переживания как раз и делает жизнь наслаждением.
Итак, в китайской цивилизации власть, коммерция, стратегия, мораль, но также здоровье и семейное благополучие составляют звенья единого континуума разумной жизни. Тайваньский социолог Вэнь Чун-и представил даже некоторую статистику о подобной цельности китайского миросознания. Он проанализировал 175 образцов суждений о связи богатства, добродетели и бедности в китайской классической литературе. Выяснилось, что в 42 случаях богатство предстает закономерным следствием добродетели, а в 30 случаях добродетель названа спутницей богатства. Случаев, когда бедность названа результатом добродетели или, наоборот, добродетель – результатом бедности, несколько меньше: соответственно 31 и 25.[1, с.84 и сл.]
Слияние материального и символического капиталов обеспечивается в Китае социальными ритуалами (ли) – подлинной основы китайского социума. В свете ритуала самоумаление оказывается на самом деле условием коммуникации и, в итоге, общественного авторитета.
Что служит метафизической основой единения «субстанции» и «функции», жизни и стоимости в китайском миропонимании? Ответ, вероятно, надо искать в традиционном для китайской мысли отождествлении реальности с «таковостью» существования, с тем, что «таково само по себе» (цзы жань), т.е. не с предметностью, а с качествованием существования. Именно таковость существования уравнивает столь несходные, даже несопоставимые во всём остальном вещи, делая основой китайского миросозерцания принцип подобия вне различия между истинным и ложным. Политическим следствием метафизики «таковости», при всех её моральных обертонах, стало то, что можно назвать системной коррупцией, как формой взаимной конвертации богатства и власти, экономического могущества и наслаждения жизнью. Механизм подобной конвертации не поддается законодательному регулированию и основывается на молчаливом консенсусе общества. Отсюда его необычайная живучесть и подлинно всеобъемлющий характер. Именно он ответствен за то, что в старом Китае, несмотря на высокий уровень коммерциализации общественной жизни, так и не появился капитализм, как самодовлеющая сила и двигатель исторического развития. Для того, чтобы капитализм вступил в Китае в свои права, понадобилась современная технологическая революция. Но экономическое могущество в Китае всегда служило, а в огромной степени и сегодня служит собственно жизненным ценностям: власти, удовольствию, славе, семейному единению, радостям человеческого общения, даже азарту, и ради этих приятных вещей денег не жалеют и в наши дни.
Надо понять, что китайцев объединяют не идеи, не абстрактные ценности, даже не совместные дела, а... живые тела. «Небо видит глазами и слышит ушами народа», – гласит классическое китайское изречение. И в этом пункте китайское мировосприятие неожиданно сходится с тенденцией к имманентизации идеала, опрокидывания умозрительных ценностей на план телесного существования, которая свойственна позднему модерну Запада.
Взаимная обратимость, конвертация богатства и жизни соотносится с традиционным для Китая понятием человеческой социальности, как преемственности между «малым» телом физического индивида и «большим» телом общественного и притом неявленного, безмолвного консенсуса. С древности задачей человеческой жизни (непременно жизни как совершенствования!) в Китае считалась реализация посредством способностей «малого тела» потенций «большого тела», и эта реализация не могла не носить характер нравственного совершенствования. Под «большим телом» здесь следует понимать не столько формальную общественность, сколько естественную человеческую общность, жизненное сообщество, возникающие на основе родства и личного доверия. Это означает, помимо прочего, что прообразом «тела социума» выступает не индивидуальное тело, а, скорее, тело как сеть отношений, рассеянное, пусто-телое, классифицируемое по сочленениям и отверстиям (точкам открытости миру), как принято в китайской медицине.
Если присмотреться внимательнее к китайскому жизненному идеалу, в нём действительно можно обнаружить поразительные параллели собственно коммерческой деятельности. Китайцы традиционно считали высшей ценностью не что иное, как «питание жизни» (ян шэн), и они стремятся использовать все возможности для укрепления жизненной энергии. Последняя, очевидно, выступает как своеобразный аналог капитала, в котором и воплощается жизненный идеал китайцев: получение от жизни как можно более чистого и здорового удовольствия. И здесь весьма ценной оказывается способность откладывать реализацию удовольствия, что, кстати сказать, многие китайские политики и бизнесмены считают главным преимуществом китайской культуры перед «растленной» цивилизацией Запада.[6, с.50 и сл.] Примечательно в этой связи китайское представление о сексуальной практике: последняя трактовалась как способ умножения запасов семени в организме мужчины, что укрепляло его жизненные силы и, в итоге, способствовало рождению потомства.
Не вдаваясь в детали процесса «питания жизни», отметим его основные характеристики.
Во-первых, речь идет не просто о «накапливании» жизненных сил, но о качественном улучшении жизни, интенсификации жизненного опыта, повышении чувствительности тела и духа.
Во-вторых, вновь обретённая интенсивная жизнь предстаёт как уникальная, несоизмеримая единичность, она же абсолютная функциональность или фокус мировых метаморфоз.
В-третьих, проживание этих единичностей носит характер «возвращения к истоку», наследования изначальному, что даёт возможность в известном смысле овладеть временем и упреждать события. Таков один из важный аспектов знаменитого китайского гунфу.
В-четвёртых, описанная стратегия капитализации жизни выявляет значение пустоты всеобщей функциональности как неистощимого резервуара, неустранимого остатка всего сущего, условия абсолютного покоя, что в сочетании с интенсификацией переживания как раз и делает жизнь наслаждением.
Итак, в китайской цивилизации власть, коммерция, стратегия, мораль, но также здоровье и семейное благополучие составляют звенья единого континуума разумной жизни. Тайваньский социолог Вэнь Чун-и представил даже некоторую статистику о подобной цельности китайского миросознания. Он проанализировал 175 образцов суждений о связи богатства, добродетели и бедности в китайской классической литературе. Выяснилось, что в 42 случаях богатство предстает закономерным следствием добродетели, а в 30 случаях добродетель названа спутницей богатства. Случаев, когда бедность названа результатом добродетели или, наоборот, добродетель – результатом бедности, несколько меньше: соответственно 31 и 25.[1, с.84 и сл.]
Слияние материального и символического капиталов обеспечивается в Китае социальными ритуалами (ли) – подлинной основы китайского социума. В свете ритуала самоумаление оказывается на самом деле условием коммуникации и, в итоге, общественного авторитета.
Что служит метафизической основой единения «субстанции» и «функции», жизни и стоимости в китайском миропонимании? Ответ, вероятно, надо искать в традиционном для китайской мысли отождествлении реальности с «таковостью» существования, с тем, что «таково само по себе» (цзы жань), т.е. не с предметностью, а с качествованием существования. Именно таковость существования уравнивает столь несходные, даже несопоставимые во всём остальном вещи, делая основой китайского миросозерцания принцип подобия вне различия между истинным и ложным. Политическим следствием метафизики «таковости», при всех её моральных обертонах, стало то, что можно назвать системной коррупцией, как формой взаимной конвертации богатства и власти, экономического могущества и наслаждения жизнью. Механизм подобной конвертации не поддается законодательному регулированию и основывается на молчаливом консенсусе общества. Отсюда его необычайная живучесть и подлинно всеобъемлющий характер. Именно он ответствен за то, что в старом Китае, несмотря на высокий уровень коммерциализации общественной жизни, так и не появился капитализм, как самодовлеющая сила и двигатель исторического развития. Для того, чтобы капитализм вступил в Китае в свои права, понадобилась современная технологическая революция. Но экономическое могущество в Китае всегда служило, а в огромной степени и сегодня служит собственно жизненным ценностям: власти, удовольствию, славе, семейному единению, радостям человеческого общения, даже азарту, и ради этих приятных вещей денег не жалеют и в наши дни.
Надо понять, что китайцев объединяют не идеи, не абстрактные ценности, даже не совместные дела, а... живые тела. «Небо видит глазами и слышит ушами народа», – гласит классическое китайское изречение. И в этом пункте китайское мировосприятие неожиданно сходится с тенденцией к имманентизации идеала, опрокидывания умозрительных ценностей на план телесного существования, которая свойственна позднему модерну Запада.
Взаимная обратимость, конвертация богатства и жизни соотносится с традиционным для Китая понятием человеческой социальности, как преемственности между «малым» телом физического индивида и «большим» телом общественного и притом неявленного, безмолвного консенсуса. С древности задачей человеческой жизни (непременно жизни как совершенствования!) в Китае считалась реализация посредством способностей «малого тела» потенций «большого тела», и эта реализация не могла не носить характер нравственного совершенствования. Под «большим телом» здесь следует понимать не столько формальную общественность, сколько естественную человеческую общность, жизненное сообщество, возникающие на основе родства и личного доверия. Это означает, помимо прочего, что прообразом «тела социума» выступает не индивидуальное тело, а, скорее, тело как сеть отношений, рассеянное, пусто-телое, классифицируемое по сочленениям и отверстиям (точкам открытости миру), как принято в китайской медицине.
Итак, «социальное тело» по-китайски существует как рассеянная или даже, скорее, рассеивающаяся структура, где центр и периферия, внутреннее и внешнее переходят друг в друга, где каждая точка соприкасает с «инобытием», где видимое есть образ (подобие) отсутствующего, и где человек в конечном счёте живет по пределу своего существования, пребывает в непрерывных превращениях подобно тому, как бытие «самоподобия» есть постоянная метаморфоза, удостоверяющая... вечносущие качества бытия. Мы имеем дело с аморфной, неформальной, текучей, но чрезвычайно гибкой и живучей средой, которая предстает своего рода «другим», «третьим» социумом, существующим «по ту сторону» общественных институтов и аномии толпы.
Именно потому, что китайский тип социальности легко переходит или, если угодно, легко убирается в символический модус существования, он обладает огромным потенциалом глобализации, в своём роде не меньшим, чем потенциал глобализации на основе западного индивидуализма. Наглядным подтверждением этому тезису служит такая универсальная форма проживания китайцев за пределами Китая, как чайнатаун – «китайский квартал». Чайнатаун являет собой как бы виртуальный, игровой в своей нарочитой зрелищности, символический образ Китая. Это не обособленное пространство гостиницы-музея, а самая что ни на есть реальная повседневность, но повседневность, насквозь эстетизированная, стилистически выдержанная, играющая самоё себя в откровенно условных формах китча. В этом смысле чайнатаун есть концентрированное выражение «аутентичной зрелищности», «реалистической фантомности» глобального капитализма. Поистине, китайцы всюду чувствуют себя как дома: они отстраняются от своего, чтобы высвободить для себя поле игры с чужим, преобразить окружающую среду в хоровод «теней», «отблесков» жизненного опыта и... заработать на этом. Это по сути своей ритуальный социум, где символизм ритуала сливается с жизненной актуальностью. Изготовление подделок, достижение идеального подобия – не просто распространённая в современном Китае выгодная экономическая деятельность, но в известном смысле – глубочайшая правда китайской цивилизации.
Игра – эффективнейший способ посредования между производством и потреблением, а равно высвобождением и обузданием жизненного желания. Она неразрывно связана с чистым аффектом жизни, который легко принимает вид массового энтузиазма. Автор этих строк не раз имел случай отметить, что религии в Китае ориентируются на артикуляцию и сублимацию стихии «избыточного желания», что делает их естественными спутницами современного капитализма.[4, с.125-126][5]
В структурном отношении присущий китайской цивилизации сетевой, основанный на личных и вместе с тем жестко формализированных контактах социум представляет собой как бы три концентрические сферы. Его ядро составляет семейный коллектив, внешняя сфера соответствует кругу друзей и доброжелательных знакомых, а на периферии находятся разного рода чужаки, от незнакомых земляков до иностранцев. Эти три группы различаются между собой по степени оказываемого им доверия: «своей семье доверяют абсолютно, друзьям и знакомым доверяют в той мере, в какой с ними находятся в отношениях взаимной зависимости, в отношении же всех прочих не предполагается наличия доброй воли».[16, с.67]
Всё это означает, что китайский социум есть среда хотя и не субъективного, но эмоционально окрашенного общения. Человеческая социальность, в китайском понимании, творится способностью к взаимным «человеческим обязательствам» (жэнь цин). Американское представление о безликих, равноправных «агентах» рынка, вступающих между собой в формальные, прописанные законом отношения обмена, не имеет под собой никакой почвы в китайском обществе. В эмоционально нейтральной среде чисто делового общения, где нет ни привилегированных, ни особенно близких или, наоборот, внушающих опасения лиц, китаец попросту теряется: такую среду он скорее всего сочтет бездушной, бесчеловечной и будет инстинктивно искать какие-то возможности для доверительного общения. При этом строгое соблюдение этикета есть для него не препятствие для установления и поддержания дружеских связей, а самоё условие их существования. Оно создаёт для него пространство стратегического действия.
В развёрнутом виде кланово-земляческая организация являет собой именно сеть, рассеянную, но прочную «паутину» аффилиированных групп. И подобно тому, как для паука сотканная им паутина служит посредником между ним и миром, паутина родственных и квазиродственных групп идеально совмещает внутреннее измерение организации и внешний мир. Традиционный китайский бизнес – порождение этой общественной среды. Его реальные преимущества относятся к обеспечиваемой именно культурой эффективности коммуникации или того, что можно назвать чистой сообщительностью как предела всех сообщений. Н. Луманн, касаясь условий осуществления власти, говорит об обуславливаемой культурой «модализации отношений» и в конечном счете – о «метакоммуникации», которая проявляется «в форме молчаливого предпонимания, этакого ожидаемого ожидания ожиданий». Метакоммуникация «может актуализироваться в косвенных указаниях, риторических вопросах и намёках, наконец, формулироваться эксплицитно».[3, с.45] Впрочем, как бы эксплицитно ни формулировалась «метакоммуникация», она неизменно выражается символически.
Сказанное отчасти объясняет, почему китайские семейные предприятия способны процветать даже несмотря на то, что многие принципы их организации и деятельности явно противоречат основам современного менеджмента. Считается, что большие компании способны действовать более эффективно, но в китайской среде эффективны как раз малые предприятия. Теория менеджмента предписывает управляющим делить власть с подчинёнными, вовлекая их в общее дело, а в китайском социуме руководители сохраняют за собой всю полноту власти и только указывают подчинённым, что им нужно делать. Такая популярная на Западе управленческая методика, как мобилизация работников на достижение общей цели, совершенно непригодна в китайской среде. Ещё менее подходят китайскому обществу демократические замашки американских управленцев. Современные теоретики менеджмента советуют почаще обновлять руководящие звенья предприятия и перестраивать их структуру, а китайский семейный бизнес отличаются стабильностью и руководства, и организации. Господство личностных отношений и патерналистское отношение начальства к рядовым работникам, неразвитость специализации ролей тоже не вписываются в современные модели рационально устроенных предприятий.
Мы должны заключить, что главной и на европейский взгляд загадочной особенностью капиталистического уклада на Дальнем Востоке является прочное и эффективное сочетание экономического либерализма с патерналистским типом организации и государственным регулированием общественной жизни. Если отвлечься от европейских штампов о «восточном авторитаризме» и приглядеться внимательнее к реальной ситуации, то мы увидим, что жесткого контроля государства над хозяйственной жизнью как раз нет, и что государственная политика вырастает, скорее, из толщи самого общества, будучи результатом взаимодействия множества разнородных факторов. Сила восточного «авторитаризма» объясняется тем, что он оформляет и санкционирует некий неформальный общественный консенсус. Мы уже знаем, о чём идет речь в терминах китайской традиции: о всеединстве «просветленного сердца», которое предстаёт как чистая сообщительность – предел всех сообщений. А власть, вырастающая из этих скрытых посылок общественного бытия, способна дать моральную и отчасти даже священную санкцию, казалось бы, аморальным принципам обмена и нерегулируемого потребления.
Подобное сочетание либерализма и культуртрегерского патернализма бросает вызов принятым на Западе ценностям и общественным теориям. Но не нужно забывать, что рынок повсюду вырастает из исторических условий, а потребление, ставшее движущей силой современного капитализма, тем более определяется местным культурным своеобразием. Основа морали в Китае – не рабская покорность, а точное исполнение своей социальной роли, которое в конфуцианстве совпадает с естественными наклонностями человека и потому не ущемляет его свободы.
Итак, экономика высвобождения/сдерживания желания, на которой стоит капитализм, в свете китайского опыта имеет даже более глубокие корни, чем кажется европейцам. Эта пустотная точка всеобщей эквивалентности, Великий Ноль (выражение Ж.-Ф. Лиотара, а до него – К. Малевича) есть сама «таковость» бытия – одновременно всеобщая и, как воплощение качественности переживания, утверждающая иерархию духовных состояний, чего не понимает и не принимает европейский индивидуализм. Но речь идёт, в сущности, об отсутствующей глубине опыта, которая может быть выражена лишь столь же безыскусным, сколь и риторическим, иносказательным образом, как в известном чань-буддийском афоризме: «Не просветлившись, рубим дрова и носим воду. Просветлившись, рубим дрова и носим воду». В «таковости» чистая актуальность практики неотличима от предметного делания.
Как же в описанной выше социальной среде выстраивается предпринимательская стратегия? Обращаясь к истории, мы можем заметить определённую эволюцию социальной роли предпринимательства и торговли. В традиционном обществе коммерция носит асоциальный характер и может порой выражать враждебность и презрение сектантов к погрязшему в грехах «старому миру», наживаться на котором, даже с помощью обмана – дело позволительное. Но постепенно торговля и финансовые операции входят в ткань общественной жизни, становятся респектабельным занятием, что в Китае происходит в эпоху позднего средневековья. Современный же «виртуальный» капитализм знаменует вторжение капитала непосредственно в жизнь души. На передний план выходит приватная жизнь индивидов, их непосредственное общение. Этот новый образ частной жизни в силу своей публичности несёт в себе элемент деперсонализации, анонимности, стилизации личности под public image, который неизбежно присутствует в универсальности капиталистического обмена и с особой силой заявляет о себе в естественной разобщенности индивидов в сетевой организации, а также условностях виртуального контакта. Взаимодействие «своего» и «чужого», составляющее самую сущность социального, выступает здесь в небывало откровенном, остром виде и протекает в реальном времени личного контакта.
Успехи дальневосточного капитализма во многом объясняются именно традиционной ориентацией культур этого региона на реальность человеческого общения. На основании многочисленной литературы о «каноне торговли» в Китае не представляет труда выделить основные принципы китайской предпринимательской стратегии.[2][10] Эти принципы удобно разбить на две группы: одна из них имеет отношение к моральным ценностям, другая касается собственно стратегии.
Нравственные правила в основном выражают идею воспитания твёрдого характера, воли и самообладания. Успех и влияние придут лишь к тому, кто максимально строго спрашивает с себя, «без устали себя выправляет», «превозмогает себя» и поэтому отличается скромностью и радушием. Внутренний покой и безмятежность высоконравственного мужа естественно перетекают в участливое, чуткое отношение к другим, способность безошибочно определять моральные качества окружающих и угадывать их устремления.
К числу стратегических правил относится готовность применить как формальные, так и скрытые средства воздействия, понимание значимости секрета в коммерции, умение держать под контролем ситуацию и владеть инициативой, завязывать дружеские связи с сильными мира сего без заискивания перед ними и сеять раздоры в стане противника, не обнаруживая своего участия. Верхом стратегического искусства оказывается способность предвидеть события. Такое знание дается в на-следовании Изначальному, т.е. в своего рода «попятном движении» мысли. «Вернуться к началу» означает опередить других, поставить себя в заведомо выигрышное положение и лишать противника его преимуществ еще до того, как он начнет действовать.
Заметим, что сетевая структура ослабляет и разлагает более «субстанциальные», т.е. более фиксированные и жесткие, виды социума. Не случайно в современной мысли популярна идея некой совершенно неформальной, нелокализуемой и в этом смысле «чистой» социальности, внутреннего предела последней, который выявляется лишь в распаде институционального общества. Если же говорить о смычке коммуникации и внутренней самодостаточности, то она в китайской традиции выражена в фундаментальном для жизненной стратегии в Китае понятии «следования» (шунь, инь, суй, цун и др.), которое соединяет следование изменчивым обстоятельствам и следование (можно сказать: на-следование) истоку вещей. Это «следование», по сути, указывает на не-различение поступательного движения мира и «возвращения» к цельности изначального хаоса. Тот, кто усвоил мудрость «следования», говорили в Китае, обладает «внушительным обликом» именно потому, что он «обращен в себя» и не зависит от внешнего мира. Реальность в китайском миропонимании – это взаимопроникновение тела и тени, сущности и образа, где все является подобием иного, и каждый момент жизни, каждая её метаморфоза разумны и оправданы.
Капиталистическая мораль – вещь в лучшем случае сомнительная. Но китайцы сумели с полной искренностью соединить мораль с капитализмом или, лучше сказать, обосновать возможность морального капитализма. Такое соединение возможно благодаря преемственности морали, социальности как «чистого общения» и духовной практики, причём духовное совершенство совпадает с чистой имманентностью, «таковостью» самой жизни. В результате мораль соотносится с управляемым законами капитала общением так же, как дух – с «жизнью, как она есть». Правда, указанное единство достижимо лишь ценой сохранения иерархии и разделения (впрочем, совершенно ненасильственного, определяемого степенью нравственного совершенства) между знающими и незнающими. Но ведь такое различие не отрицает и западный либерализм, даже если он больше говорит об иерархии талантов, а не моральных качеств.
Итак, историческая траектория Китая за последнее столетие побуждает к переоценке европейских представлений об истории и природе капитализма. С высоты сегодняшнего дня легко увидеть, что Китай неохотно и лишь в силу насущной необходимости перенимал общественные и экономические формы европейского Модерна. Однако китайская цивилизация имела потенциал для развития капиталистических отношений, соответствующих «гиперкапитализму» Постмодерна. Этот потенциал в полной мере раскрылся в последние десятилетия, выведя Китай в число лидеров мирового развития.
джерело
Игра – эффективнейший способ посредования между производством и потреблением, а равно высвобождением и обузданием жизненного желания. Она неразрывно связана с чистым аффектом жизни, который легко принимает вид массового энтузиазма. Автор этих строк не раз имел случай отметить, что религии в Китае ориентируются на артикуляцию и сублимацию стихии «избыточного желания», что делает их естественными спутницами современного капитализма.[4, с.125-126][5]
В структурном отношении присущий китайской цивилизации сетевой, основанный на личных и вместе с тем жестко формализированных контактах социум представляет собой как бы три концентрические сферы. Его ядро составляет семейный коллектив, внешняя сфера соответствует кругу друзей и доброжелательных знакомых, а на периферии находятся разного рода чужаки, от незнакомых земляков до иностранцев. Эти три группы различаются между собой по степени оказываемого им доверия: «своей семье доверяют абсолютно, друзьям и знакомым доверяют в той мере, в какой с ними находятся в отношениях взаимной зависимости, в отношении же всех прочих не предполагается наличия доброй воли».[16, с.67]
Всё это означает, что китайский социум есть среда хотя и не субъективного, но эмоционально окрашенного общения. Человеческая социальность, в китайском понимании, творится способностью к взаимным «человеческим обязательствам» (жэнь цин). Американское представление о безликих, равноправных «агентах» рынка, вступающих между собой в формальные, прописанные законом отношения обмена, не имеет под собой никакой почвы в китайском обществе. В эмоционально нейтральной среде чисто делового общения, где нет ни привилегированных, ни особенно близких или, наоборот, внушающих опасения лиц, китаец попросту теряется: такую среду он скорее всего сочтет бездушной, бесчеловечной и будет инстинктивно искать какие-то возможности для доверительного общения. При этом строгое соблюдение этикета есть для него не препятствие для установления и поддержания дружеских связей, а самоё условие их существования. Оно создаёт для него пространство стратегического действия.
В развёрнутом виде кланово-земляческая организация являет собой именно сеть, рассеянную, но прочную «паутину» аффилиированных групп. И подобно тому, как для паука сотканная им паутина служит посредником между ним и миром, паутина родственных и квазиродственных групп идеально совмещает внутреннее измерение организации и внешний мир. Традиционный китайский бизнес – порождение этой общественной среды. Его реальные преимущества относятся к обеспечиваемой именно культурой эффективности коммуникации или того, что можно назвать чистой сообщительностью как предела всех сообщений. Н. Луманн, касаясь условий осуществления власти, говорит об обуславливаемой культурой «модализации отношений» и в конечном счете – о «метакоммуникации», которая проявляется «в форме молчаливого предпонимания, этакого ожидаемого ожидания ожиданий». Метакоммуникация «может актуализироваться в косвенных указаниях, риторических вопросах и намёках, наконец, формулироваться эксплицитно».[3, с.45] Впрочем, как бы эксплицитно ни формулировалась «метакоммуникация», она неизменно выражается символически.
Сказанное отчасти объясняет, почему китайские семейные предприятия способны процветать даже несмотря на то, что многие принципы их организации и деятельности явно противоречат основам современного менеджмента. Считается, что большие компании способны действовать более эффективно, но в китайской среде эффективны как раз малые предприятия. Теория менеджмента предписывает управляющим делить власть с подчинёнными, вовлекая их в общее дело, а в китайском социуме руководители сохраняют за собой всю полноту власти и только указывают подчинённым, что им нужно делать. Такая популярная на Западе управленческая методика, как мобилизация работников на достижение общей цели, совершенно непригодна в китайской среде. Ещё менее подходят китайскому обществу демократические замашки американских управленцев. Современные теоретики менеджмента советуют почаще обновлять руководящие звенья предприятия и перестраивать их структуру, а китайский семейный бизнес отличаются стабильностью и руководства, и организации. Господство личностных отношений и патерналистское отношение начальства к рядовым работникам, неразвитость специализации ролей тоже не вписываются в современные модели рационально устроенных предприятий.
Мы должны заключить, что главной и на европейский взгляд загадочной особенностью капиталистического уклада на Дальнем Востоке является прочное и эффективное сочетание экономического либерализма с патерналистским типом организации и государственным регулированием общественной жизни. Если отвлечься от европейских штампов о «восточном авторитаризме» и приглядеться внимательнее к реальной ситуации, то мы увидим, что жесткого контроля государства над хозяйственной жизнью как раз нет, и что государственная политика вырастает, скорее, из толщи самого общества, будучи результатом взаимодействия множества разнородных факторов. Сила восточного «авторитаризма» объясняется тем, что он оформляет и санкционирует некий неформальный общественный консенсус. Мы уже знаем, о чём идет речь в терминах китайской традиции: о всеединстве «просветленного сердца», которое предстаёт как чистая сообщительность – предел всех сообщений. А власть, вырастающая из этих скрытых посылок общественного бытия, способна дать моральную и отчасти даже священную санкцию, казалось бы, аморальным принципам обмена и нерегулируемого потребления.
Подобное сочетание либерализма и культуртрегерского патернализма бросает вызов принятым на Западе ценностям и общественным теориям. Но не нужно забывать, что рынок повсюду вырастает из исторических условий, а потребление, ставшее движущей силой современного капитализма, тем более определяется местным культурным своеобразием. Основа морали в Китае – не рабская покорность, а точное исполнение своей социальной роли, которое в конфуцианстве совпадает с естественными наклонностями человека и потому не ущемляет его свободы.
Итак, экономика высвобождения/сдерживания желания, на которой стоит капитализм, в свете китайского опыта имеет даже более глубокие корни, чем кажется европейцам. Эта пустотная точка всеобщей эквивалентности, Великий Ноль (выражение Ж.-Ф. Лиотара, а до него – К. Малевича) есть сама «таковость» бытия – одновременно всеобщая и, как воплощение качественности переживания, утверждающая иерархию духовных состояний, чего не понимает и не принимает европейский индивидуализм. Но речь идёт, в сущности, об отсутствующей глубине опыта, которая может быть выражена лишь столь же безыскусным, сколь и риторическим, иносказательным образом, как в известном чань-буддийском афоризме: «Не просветлившись, рубим дрова и носим воду. Просветлившись, рубим дрова и носим воду». В «таковости» чистая актуальность практики неотличима от предметного делания.
Как же в описанной выше социальной среде выстраивается предпринимательская стратегия? Обращаясь к истории, мы можем заметить определённую эволюцию социальной роли предпринимательства и торговли. В традиционном обществе коммерция носит асоциальный характер и может порой выражать враждебность и презрение сектантов к погрязшему в грехах «старому миру», наживаться на котором, даже с помощью обмана – дело позволительное. Но постепенно торговля и финансовые операции входят в ткань общественной жизни, становятся респектабельным занятием, что в Китае происходит в эпоху позднего средневековья. Современный же «виртуальный» капитализм знаменует вторжение капитала непосредственно в жизнь души. На передний план выходит приватная жизнь индивидов, их непосредственное общение. Этот новый образ частной жизни в силу своей публичности несёт в себе элемент деперсонализации, анонимности, стилизации личности под public image, который неизбежно присутствует в универсальности капиталистического обмена и с особой силой заявляет о себе в естественной разобщенности индивидов в сетевой организации, а также условностях виртуального контакта. Взаимодействие «своего» и «чужого», составляющее самую сущность социального, выступает здесь в небывало откровенном, остром виде и протекает в реальном времени личного контакта.
Успехи дальневосточного капитализма во многом объясняются именно традиционной ориентацией культур этого региона на реальность человеческого общения. На основании многочисленной литературы о «каноне торговли» в Китае не представляет труда выделить основные принципы китайской предпринимательской стратегии.[2][10] Эти принципы удобно разбить на две группы: одна из них имеет отношение к моральным ценностям, другая касается собственно стратегии.
Нравственные правила в основном выражают идею воспитания твёрдого характера, воли и самообладания. Успех и влияние придут лишь к тому, кто максимально строго спрашивает с себя, «без устали себя выправляет», «превозмогает себя» и поэтому отличается скромностью и радушием. Внутренний покой и безмятежность высоконравственного мужа естественно перетекают в участливое, чуткое отношение к другим, способность безошибочно определять моральные качества окружающих и угадывать их устремления.
К числу стратегических правил относится готовность применить как формальные, так и скрытые средства воздействия, понимание значимости секрета в коммерции, умение держать под контролем ситуацию и владеть инициативой, завязывать дружеские связи с сильными мира сего без заискивания перед ними и сеять раздоры в стане противника, не обнаруживая своего участия. Верхом стратегического искусства оказывается способность предвидеть события. Такое знание дается в на-следовании Изначальному, т.е. в своего рода «попятном движении» мысли. «Вернуться к началу» означает опередить других, поставить себя в заведомо выигрышное положение и лишать противника его преимуществ еще до того, как он начнет действовать.
Заметим, что сетевая структура ослабляет и разлагает более «субстанциальные», т.е. более фиксированные и жесткие, виды социума. Не случайно в современной мысли популярна идея некой совершенно неформальной, нелокализуемой и в этом смысле «чистой» социальности, внутреннего предела последней, который выявляется лишь в распаде институционального общества. Если же говорить о смычке коммуникации и внутренней самодостаточности, то она в китайской традиции выражена в фундаментальном для жизненной стратегии в Китае понятии «следования» (шунь, инь, суй, цун и др.), которое соединяет следование изменчивым обстоятельствам и следование (можно сказать: на-следование) истоку вещей. Это «следование», по сути, указывает на не-различение поступательного движения мира и «возвращения» к цельности изначального хаоса. Тот, кто усвоил мудрость «следования», говорили в Китае, обладает «внушительным обликом» именно потому, что он «обращен в себя» и не зависит от внешнего мира. Реальность в китайском миропонимании – это взаимопроникновение тела и тени, сущности и образа, где все является подобием иного, и каждый момент жизни, каждая её метаморфоза разумны и оправданы.
Капиталистическая мораль – вещь в лучшем случае сомнительная. Но китайцы сумели с полной искренностью соединить мораль с капитализмом или, лучше сказать, обосновать возможность морального капитализма. Такое соединение возможно благодаря преемственности морали, социальности как «чистого общения» и духовной практики, причём духовное совершенство совпадает с чистой имманентностью, «таковостью» самой жизни. В результате мораль соотносится с управляемым законами капитала общением так же, как дух – с «жизнью, как она есть». Правда, указанное единство достижимо лишь ценой сохранения иерархии и разделения (впрочем, совершенно ненасильственного, определяемого степенью нравственного совершенства) между знающими и незнающими. Но ведь такое различие не отрицает и западный либерализм, даже если он больше говорит об иерархии талантов, а не моральных качеств.
Итак, историческая траектория Китая за последнее столетие побуждает к переоценке европейских представлений об истории и природе капитализма. С высоты сегодняшнего дня легко увидеть, что Китай неохотно и лишь в силу насущной необходимости перенимал общественные и экономические формы европейского Модерна. Однако китайская цивилизация имела потенциал для развития капиталистических отношений, соответствующих «гиперкапитализму» Постмодерна. Этот потенциал в полной мере раскрылся в последние десятилетия, выведя Китай в число лидеров мирового развития.
джерело
~
Сподобалась стаття? Подаруйте нам, будь-ласка, чашку кави й ми ще більш прискоримося та вдосконалимося задля Вас.) SG SOFIA - медіа проект - не коммерційний. Із Вашою допомогою Ми зможемо розвивати його ще швидше, а динаміка появи нових Мета-Тем та авторів тільки ще більш прискориться. Help us and Donate!
Рекомендуем к Теме: